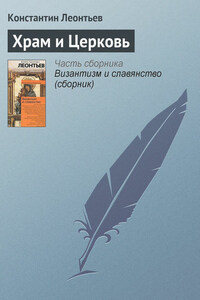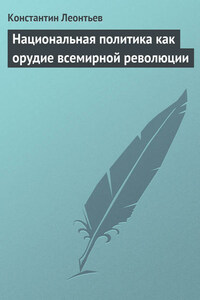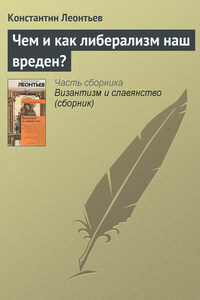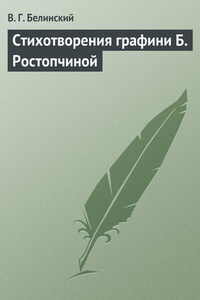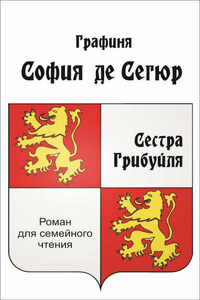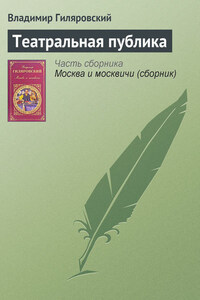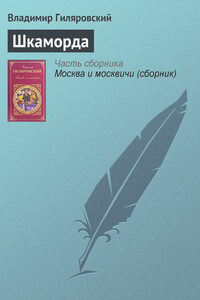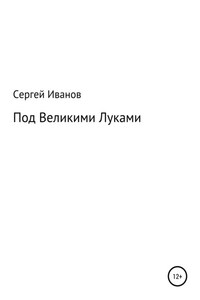Я приехал в Тульчу раннею осенью. Погода была прекрасная; город оживленный и веселый. Смотреть на него с дунайского парохода было мне очень приятно; не потому, чтобы здания его были красивы или характерны; ничуть. С этой стороны Тульча очень ничтожна; она похожа на многие города Бессарабии, Молдавии и Новороссийского края… Все белые, штукатуренные, невысокие дома и широкие улицы; широкие улицы и белые дома. Одно и то же везде, и в этом однообразии нет ни стиля, ни красоты, ни какой бы то ни было архитектурной или живописной идеи.
Мне особенно этого рода ничтожество дунайских городов могло быть понятно после того, как я прожил два года в Адрианополе. После пестрой и живописной столицы прежних султанов, после таких монументальных храмов, как мечеть Селима, с четырьмя стройными и чрезвычайно высокими минаретами, или мечеть Уч-Шерифэлли, где низ минарета раскрашен красными и белыми шахматами; после прочных каменных мостов над Тунджею и Марицею; обширных и древних кладбищ и мраморных фонтанов с арабскими письменами; после старых садов, где деревья так велики и тенисты; после жилищ, окрашенных в разнообразные цвета, нередко обширных и удобных и всегда оригинальных, – увидать после всего этого большую, белую и бесцветную новороссийскую деревню на турецкой стороне Дуная было все то же, что смотреть или читать какую-нибудь нынешнюю гладко и бойко написанную комедию после шекспировского «Короля Лира» или «Горациев» Корнеля.
Да, это так: бесцветный, бесхарактерный, белый городок, построенный амфитеатром на полугоре, у берега низменного, унылого, безлесного.
Однако глядеть на него в светлый и теплый, солнечный осенний день мне было приятно. Что-то плохое, положим, ничтожный вид… но что-то знакомое, свое.
Я тотчас же почувствовал, что это нечто близкое мне и вместе с тем странное и любопытное; уголок России под турецким владычеством.
На пристани, сходя с австрийского парохода, я увидал пестрые сарафаны дунайских староверок и синие рубашки их отцов, братьев и мужей. Я уже пять лет перед тем безвыездно прожил в Турции, и до чего я обрадовался этим сарафанам и синим рубашкам навыпуск, – я и выразить теперь не могу.
Квартира моего предместника, консула К., была у самого берега Дуная; пристань австрийских пароходов – прямо против окон и балкона. К-в встретил сам меня на пристани и привел к себе.
Он пробыл вместе со мною всего дня три, сдал мне дела и уехал в Боснию, а я остался один с прислугою в этом большом двухэтажном доме, которого хозяин был тоже русский, богатый старовер – Филипп Наумов. Я ходил по просторным и безлюдным комнатам и радовался особою, новою для меня радостью. Радость эта была вот какая: «Не выезжая из Турции – я дома! Не теряя ни одной из выгод положения русского агента на Востоке, – я опять как будто у себя на родине… Уж не в Калуге ли я моей милой? Вот опять розовый сарафан и пестрый фартук под окном моим; вот серая поддевка. Вот песня точно такая же горькая и прекрасная, какие я слыхал в Кудинове нашем, за садом, в поле или в роще, в которой я помню даже, где какая трава растет!»
Веселая, яркая одежда и печальная песня родного края!
В доме у меня служат две женщины русские, настоящие русские: Акулина и Аксинья. Акулина очень лихая вдова, пожилая кокетка, даже пьяница… Аксинья, напротив того, скромная, добродетельная, замужняя и тоже немолодая женщина; Акулина служила у предместника моего чем-то вроде горничной; Аксинья готовила кушанье. И они обе повязываются по-русски, говорят и держат себя так, как говорили бы в Орле или Мещовске…
Я был рад и ленивым щам, и пирожкам русским, и квасу, и даже водке русской, которую я вовсе не особенно люблю, но все-таки больше, чем азиатскую раки.
Вот звонят колокола в какой-то близкой церкви.
Старые турки в настоящей Турции восклицают с негодованием, когда слышат христианский звон.
– Турция ли это?
И я готов воскликнуть тоже: «Турция ли это?»
Да, это Турция. Вот веет на белом здании пунцовый флаг с большим полумесяцем; вот идет отряд низамов в синих шальварах и фесках… А колокола звонят все громче и громче на серой, деревянной церкви, в двух шагах от консульства; это староверческий храм. Это звонят некрасовцы – потомки тех казаков-староверов, которые, под начальством Игната Некрасова, ушли когда-то из России служить султану. «Игнат-казак», сначала звали их в Турции; звали их так, пока помнили самого атамана Игната, а потом стали звать «Инат-казак», – упрямый казак, упрямый в вере своей, казак непоколебимый!..
Служил Инат-казак султану верно за ту свободу строить церкви и громко звонить, которую им дала турецкая власть, и турецкое начальство всегда любило своих русских подданных больше других христиан. И оно было право: русские под властью турок – не политики, подобно юго-славянам и грекам, им нужно только одно: свобода веры, и потому-то турки и дали им охотно эту свободу громко звонить, которую они другим христианам, более политикующим, без настоятельного вмешательства русской дипломатии, никогда не давали.
Вот и кабак… недалеко от моего дома. Не прошло еще и недели после моего водворения, – иду я один, без каваса, в праздничный день, в сумерки, по улице откуда-то домой.
Слышу нашу брань и крики… Смотрю – на улице, у дверей питейного домика, небольшая толпа «мужиков», настоящих мужиков великорусских, с бородами и рубашками наружу… Подхожу и вижу: у одного на груди рубашка разорвана; у другого кровь на лице. Лица бледные, худые… Другие кричат что-то громко, тоже бранятся, иные молча смотрят; двое в стороне сидят спокойно, на лавочке, у ворот соседнего дома. На мне была круглая форменная фуражка с кокардою и, по обычаю моему, довольно толстая трость.
Хотя все эти соотчичи мои были турецкие подданные, и я ни малейшей власти над ними не имел, – я решился, однако, вмешаться в их дело, и, остановясь перед ними, сказал им так:
– Перестаньте, пьяницы, драться и буянить. Срам!.. Что вы, дураки, так бесчинствуете тут! Мне нет дела, что я вам не начальник… Я русский и вы русские – вот что… Пятый год живу в Турции и ни одного народа не видал, чтобы так скверно и часто напивался, как вы… добры слишком к вам турки, слабо вас держат… Бесстыдники… Разойдитесь сейчас и не драться больше… Молчать…
Конец ознакомительного фрагмента. Полный текст доступен на www.litres.ru