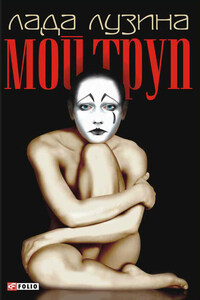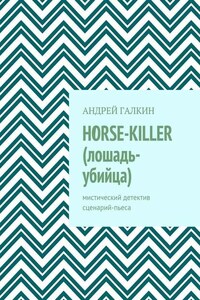Я хочу поверить тебе одну тайну, одному тебе, потому что я тебя очень люблю. У смерти только одно достоинство, но об этом никому не известно. Она добра, она ужасающе добра… только смерть настоящий друг.
Жан Ануй. «Эвридика»
Я проснулась. Мой нос сползал с плоского края подушки, упираясь в нечто твердое – мой дневник.
Просыпаться не хотелось. Жить тоже. Хотелось проспать всю свою жизнь и проснуться только для того, чтоб умереть. Но это было привычное чувство.
Я рывком села в кровати.
Последняя запись в дневнике, датированная 01:08 прошлой ночи, гласила:
План на 13. 07.
а) Пойти…
б) …повеситься.
в) Если не будет настроения, попытаться еще раз начать жизнь сначала.
Вешаться настроения не было.
Проходя мимо гостиной, я безрадостно отметила размазанный по ковру салат оливье, перевернутую этажерку с треснутой ножкой и осколки бабушкиной зеленой салатницы. Пол коридора был усыпан блестками и колтунами серпантина.
Мало что вызывает такое уныние, как грязная посуда, оставшаяся после вчерашнего праздника, вещи, бывшие модными в прошлом сезоне, и люди, которых ты когда-то очень сильно любил. Но лучше уж проснуться рядом с бывшей любовью, чем посреди помойки под названьем квартира после попойки, хотя бы потому, что выставить опостылевшего любовника за дверь гораздо легче, чем мусор…
В ванной я автоматически пошлепала ладонью, пытаясь нащупать зубную пасту, и сразу возненавидела себя окончательно. Неделю я забывала ее купить. Чистить зубы два раза в день меня намертво приучили еще в детстве, а покупать зубную пасту – не приучили. Потому два раза в сутки – утром и вечером – я рефлекторно шла в ванную, решительно брала в руку зубную щетку, в то время как вторая рука тянулась к полке под зеркалом, где лежал воображаемый тюбик, и, только коснувшись ее, вспоминала – пасты нет. То есть, конечно, в ближайшем магазине ее сколько угодно, но вчера вечером я опять забыла купить ее по дороге.
«Шо умница, шо красавица, шо пиздец».
Я уныло поставила щетку обратно в стаканчик с облезшим олимпийским Мишкой и вышла в коридор, полная омерзения к себе в целом и своим нечищеным зубам в частности. К концу недели я успела повторить ритуал восемь раз, и мне стало казаться, что во рту у меня образовалась мини-помойка. Помойка-макси образовалась у меня в квартире.
«Новая» жизньбыла такой же мерзкой, как «старая», и просыпаться окончательно, чтоб осознать это в полном объеме, катастрофически не хотелось.
«А может, все-таки повеситься?» – возможность такого исхода, как обычно, принесла утешение.
«Вы хотите убить меня? Это решит парочку моих проблем», – сказал Куилти голосом Маковецкого[1].
Я почапала в кухню, открыла холодильник, чтоб достать бутылку воды, и… проснулась.
В холодильнике сидел труп.
Его звали Андрей.
* * *
Я аккуратно прикрыла дверцу, села и попыталась определить, что я чувствую.
Ничего.
В экстремальной ситуации чувства всегда покидали меня. Ни истеричного сердцебиения, ни дрожащей пружины в желудке – бескрайняя пустота бело-зимнего поля, ни домов, ни деревьев. Я сидела на табуретке, положив руки на колени, а в моем холодильнике сидел труп. Труп Андрея – моего приятеля, актера московского театра, окончание гастролей которого мы и отмечали вчера буйной компанией. Театр улетел утром. А он остался.
Потому что он труп.
Я встала. Ног не было. Внутри было пусто, будто я проглотила кусочек вечности и теперь бесконечность пространства и времени распирает меня изнутри. Край сознания успел отметить, что я смутно надеюсь на какое-то недоразумение, обычный розыгрыш, на то, что сейчас Андрей откроет глаза и скажет: «Ха-ха! Ну что, попалась, подруга?»
Андрей смотрел на меня стеклянными глазами куклы. Его подбородок упирался в колени – чтобы поместиться сюда, ему пришлось крепко обхватить ноги руками. На нем были черные брюки и футболка – черные густые восточные волосы лежали на плечах. Он был на четверть узбеком, на четверть поляком, наполовину русским. Во всяком случае, он так говорил, а я никогда не спрашивала, шутка ли это.
Я наклонилась и заглянула в его удивительное спокойное лицо. Он был мертв. Однозначно мертв. Такой абсолютный покой исходит только от неодушевленных вещей.
Я снова закрыла дверь. Снова села. Закурила. Курящему человеку легче понять, что он сходит с ума, чем некурящему. Я всегда могла сосчитать, сколько шагов сделала в сторону сумасшедшего дома только по тому, как подкуриваю сигареты.
Есть несколько стадий. Первая – самая легкая и распространенная – засовываешь сигарету в рот обратной стороной и на автомате подпаливаешь фильтр. Вторую – я удовлетворенно отметила, после того как секунд пять подряд щелкала зажигалкой, прежде чем поняла: сигарету, которую я безуспешно пытаюсь подкурить, я просто забыла вставить в зубы. Третья грянула, когда, вытащив сразу две сигареты из пачки, я засунула одну из них в рот и изо всех сил старалась подкурить вторую, старательно затягиваясь первой – не зажженной. Четвертой и пятой стали два пожара – я подкурила в ресторане мундштук кальяна, а неделю назад подожгла зажатую в зубах авторучку. С тех пор, как журналист, я, наверно, могла бы претендовать на звание «горящее перо»…
Нынче же наступил мой финал. Не было сомнений, я – ненормальная, окончательно и бесповоротно, – я без промаха запихнула сигарету в рот, чиркнула спичкой, затянулась и поняла, что не испытываю никаких чувств, которые положено испытывать в подобных случаях всем нормальным людям. Ни страха, ни отвращения, ни сожаления.
Ощущение было одно – остановившегося времени. И в том безвременье я сидела на кухне, опершись локтями о заляпанный высохшими лужами стол, курила и бесчувственно размышляла о том, что Андрей мертв. Он сидит в холодильнике. И даже мертвым остается таким же красивым. Вернее, мертвый он еще красивее, чем в жизни. Похож на куклу в огромной коробке, жутковато-красивую куклу в стиле «Господина Оформителя»