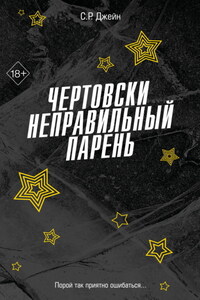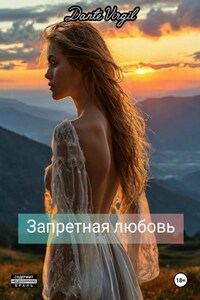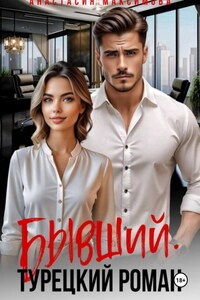Возможно, именно сознание тяготеющего над ним проклятья, неизбежность которого была столь очевидна, столь реальна, столь непреодолима, – во всяком случае, для внутреннего зрения самого рабби Ицхака – возможно, что именно это сознание и придавало его манере держаться то неуловимое очарование, – невозможную смесь собственного достоинства, свободы и, вместе с тем, деликатности и искреннего внимания к собеседнику, – которое так редко встречается в жизни, но которое иногда можно наблюдать у смертельно больных, уже перешедших границы отчаянья и оставшихся один на один со своей верой, – или тем, что привычно, чаще не задумываясь, называют этим словом.
Невыносимость павшего с неба приговора могла легко раздавить и искалечить, но она же, порой, была способна навсегда избавить тебя от страха, освободив от пут повседневности и окунув вдруг в ничем не замутненную свободу, возвращая то изначальное бесстрашие, о котором ничего не рассказывали поздние комментаторы, но чей голос можно было расслышать в рассказах Брейшит о патриархах или в писаниях малых пророков, не говоря уже о книге Иова, неизвестно каким чудом затесавшуюся в Канон и, наверное, только благодаря этому избежавшей забвения.
Так раненный и загнанный охотниками дикий зверь вдруг поворачивал свой бег в сторону своих преследователей, готовясь к последнему и яростному прыжку, позабыв о боли и инстинкте самосохранения, чтобы принять смерть или победить. Да и что, собственно, было терять тому, кто принял свою отверженность, как последнюю очевидность, дальше которой уже некуда было идти и нечего было искать? Тому, кто оказался вдруг отброшенным так далеко, что даже сама эта отброшенность, казалось, утратила признаки какой бы то ни было достоверности, – словно тысячу раз повторившийся, знакомый до последней детали сон?
Однажды, – кажется, это было в самой середине пятидесятых, где-то сразу после Суэцкого кризиса, – отец пригласил его в свой кабинет.
Был вечер, и настольная лампа под зеленым стеклянным абажуром на его столе явно лгала, свидетельствуя своим мягким светом о прочности бытия и незыблемости установленного когда-то порядка.
– До сих пор помню выражение его лица, – сказал рабби Ицхак, улыбаясь одними уголками губ. – Оно было такое, словно ему предстояло броситься в одежде в ледяную воду или увидеть на своей тарелке кусок свинины.
– Я много думал, прежде чем решился поставить тебя в известность по поводу некоторых фактов, связанных с нашей семьей, – произнес он, усаживая Ицхака в свое кресло и оставаясь стоять рядом, упершись ладонями в край стола. Пальцы его нервно барабанили по отполированной поверхности сборной столешницы.
– Может быть, я поступаю неправильно, – продолжал он, не переставая свое постукивание, – но все-таки я решил, что будет лучше, если ты будешь это знать, Ицик… Да. Во всяком случае, никто не посмеет обвинить меня в том, что я что-то скрыл от собственного сына, – добавил он с неуклюжей усмешкой, похлопав Ицхака по плечу, как будто в действительности дело, о котором он собирался распространиться, не стоило и выеденного яйца, и лампа на его столе все-таки говорила сущую правду.
Затем, чуть помедлив, он протянул руку и поднял лежавшую на столе развернутую газету. Под ней оказалась старая кожаная папка для бумаг и застекленная фотография в узкой, темной и простой рамке. Яркие блики от настольной лампы мешали рассмотреть изображение.
Подняв голову, Ицхак посмотрел на отца.
– Вот, – сказал тот высоким, немного театральным голосом, – так, словно эти лежащие на столе предметы не нуждались ни в каком объяснении, а если и объяснялись, то одним только своим присутствием здесь, не прибегая к помощи слов.
– Вот, – повторил он, всей раскрытой рукой указывая на разложенные на столе вещи, и громко сглотнул слюну, словно не в силах был продолжать дальше.
Похоже, отец явно волновался.
Затем он сказал:
– Вот человек, который стал проклятием нашего рода.
Это звучало так, как если бы кто-то вдруг подошел к вам на улице и сказал, что вы сейчас умрете. То есть, попросту говоря, никак. Подняв голову, Ицхак смотрел на отца, ожидая, когда тот продолжит.
– Его зовут Соломон… Соломон Нахельман, – сказал, наконец, отец, не без труда, кажется, шевеля непослушными губами. – Соломон Нахельман, – повторил он так, словно и без всяких объяснений все было понятно. – Хотя сам он, конечно, предпочитал называть себя Йешуа-Эммануэль, но это его не настоящее имя.
Проклятие нашего рода, Ицхак. Проклятие нашего рода, предпочитающее называть себя Йешуа-Эммануэль. Похоже, тут крылось что-то из ряда вон, подумал Ицхак
– Соломон Нахельман, – повторил он, ожидая объяснений. – Кто это?
– Кто? – нервно сказал отец, словно удивляясь, что есть на земле кто-то, кто не знает человека, изображенного на фотографии. – Ты спрашиваешь, кто это, Ицик. Ну, конечно. Вот как раз этого я и хотел – чтобы ты узнал. Потому что это к твоему сведению, – он легонько постучал ногтем по стеклу, за которым пряталась фотография, – мой дед, Соломон. Отец моего отца. Мой дед, а значит, твой прадед. Не удивлюсь, если окажется, что наш род проклят за его грехи, Бог знает до какого колена.
Ицхаку показалось вдруг, что отец сейчас заплачет.
Он склонился над столом.
С лежащей на столе фотографии на него смотрел незнакомый господин в длинном пальто и котелке, с тоненькой тросточкой в одной руке и парой кожаных перчаток в другой. Он был здесь совсем молод, – этот внезапно упавший ему на голову родственник, – лет, может быть, двадцати пяти или чуть больше, – вполне ухоженный господин с пухлыми, хорошо выбритыми щеками и таким же чисто выбритым круглым подбородком. Острыми стрелками разбегались в разные стороны франтоватые усы. Белый шарф выбивался на груди ровно настолько, насколько требовалось, чтобы создать впечатление легкой самодостаточной небрежности, снисходительно взирающей на мир.
Неизвестно откуда свалившийся на голову прадедушка, чье существование, судя по всему, до сих пор тщательно скрывалось, смотрел на Ицхака безо всякого интереса. На губах его бродила легкая загадочная усмешка. Так, словно он хотел сказать – вот и я! Я пришел! Пришел!
Бросив взгляд на фотографии, висевшие среди книжных полок, над столом, Ицхак спросил: