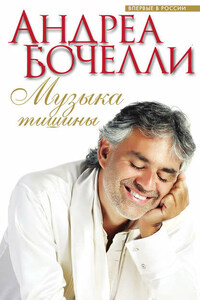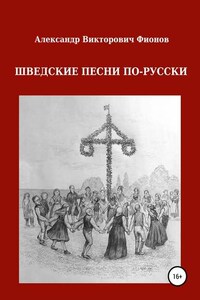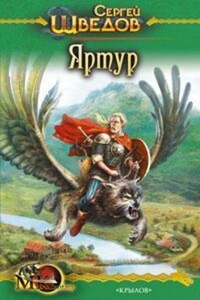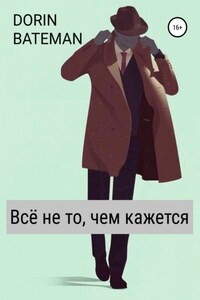Я чувствую некоторую неловкость, легкую, но искреннюю, при мысли о том, что спустя долгие годы мне снова приходится брать в руки перо. А ведь я посвятил этому много приятнейших часов своей юности.
Неловкость моя объясняется, пожалуй, отсутствием определенной мотивации или предлога: тогда я писал, преимущественно выполняя школьные задания; иногда сочинял письма своим далеким друзьям, писал стишки или предавался прочим подростковым слабостям творчества.
Моя цель – если это вообще может быть достаточным основанием для человека моего возраста, который внезапно вообразит себя писателем, – лишь с пользой занять свободное время, избежать праздности, а заодно рассказать простую жизненную историю.
Признаюсь, главное, что меня беспокоит, – вовсе не то, что случайный читатель вдруг начнет зевать от скуки над моими жалкими каракулями; ведь, в конце концов, он вправе в любой момент отложить эту книгу и забыть о ней. Но дело в том, что я постоянно ощущаю, будто за мной, пока я пишу, наблюдают проницательные глаза, читающие мои мысли. Это глаза старика, старика с добрым лицом, хранящим сочувственное выражение, с едва заметной улыбкой человека, великолепно знакомого с фарсом под названием «жизнь» – знакомого настолько, что это уже не вызывает у него ничего, кроме скуки и отвращения. На лице старика уже не найти и следа земных страстей, навсегда стертых неумолимой силой времени и упорством мысли. И все же этот светлый лик, озаренный огнем неведомых мне идей, строго судит меня: под этим взглядом я чувствую себя смешным, робким, мне то и дело кажется, что я ни на что не способен; а ведь еще секунду назад я воображал, будто мне известно все, как те школяры, что прочитали пару философских высказываний за партой лицея и считают, будто уже познали абсолютную истину. Иногда мне чудится, что на лице старика появляется ироническое выражение. И тогда я задаю себе вопрос: почему он не снисходителен ко мне в той же мере, что к остальным? Почему относится ко мне так строго?
Добрый читатель, вероятно уже понявший, кто такой этот милый старец-наблюдатель, знай же, что его неусыпный взгляд всегда направлен мне в спину и во всякое мгновение дня и ночи он руководит всеми моими действиями и решениями.
Я вижу себя в одной из многочисленных комнаток, в которых мне приходилось проводить время: это помещение три на три, с двумя креслами, умывальником, зеркалом, столиком и стенным шкафом. Свет сюда попадает из единственного окна, выходящего на улицу. Два часа дня, и мне придется торчать здесь допоздна. Скоро за мной придут, чтобы позвать на репетицию, а потом и на грим; будут приносить мне воду и кофе – в общем, все как обычно. Так что, дабы скоротать время, я начну свой рассказ. Компьютер включен. Дело за сюжетом.
Я ощущаю необходимость уйти, но это невозможно. Меряю комнату шагами, хожу взад-вперед в поисках воспоминаний, былой печали и давно ушедших чувств к почти позабытым людям и событиям; и внезапно мне вспоминается мальчишка в коротких штанишках, тоненький, словно прутик, с вечно беспокойными ножками, немного кривыми и сплошь покрытыми синяками и ушибами. Волосы у него черные как смоль, личико – умненькое, с правильными чертами, и принимает то очаровательное, то малосимпатичное выражение, в зависимости от того, кто на него смотрит.
Если не возражаете, я расскажу вам о нем: ведь я хорошо с ним знаком и легко могу выносить суждения о его жизни, его мыслях, принятых им решениях, – ведь, что называется, каждый из нас задним умом крепок.
Я бы назвал его самым что ни на есть нормальным мальчишкой, хотя в некотором смысле не совсем обычным, поскольку жизнь его выбивалась из общей схемы по причинам, сейчас известным многим. Когда я говорю «нормальный», то имею в виду, что у него в равной мере имелись и достоинства, и недостатки; я считаю его нормальным, даже несмотря на довольно серьезный физический недостаток, который мне впредь придется учитывать в своем повествовании. Я опишу его, но сначала дам имя главному герою этой истории.
Поскольку имя по сути не имеет значения, я назову его Амос. Так звали человека, к которому я испытываю глубокую и непреходящую благодарность: ему я обязан теми знаниями, которые у меня есть, и пониманием жизни, которое он мне привил. Кроме того, это имя одного из юных пророков: может быть, именно поэтому оно так нравится мне и кажется подходящим для мальчишки, у которого, как я уже начал рассказывать, было плохое зрение, а в двенадцать лет он потерял его совсем в результате несчастного случая. После этого он целый час плакал от страха и растерянности и неделю с лишним привыкал к сложившейся ситуации. Впоследствии Амосу удалось все забыть, а заодно и помочь забыть своим родственникам и друзьям. Вот все, что я могу сказать по этому поводу.
А вот в том, что касается характера Амоса, мне следует быть очень точным, чтобы читатели смогли понять, в какой степени этот характер повлиял на его судьбу.
Его мать часто и подробно рассказывает о тысячах проблем, которые сопровождали ее, пока она растила своего первенца, такого живого и непредсказуемого. «Невозможно было отвлечься даже на секунду, – говорит она, – он тут же что-нибудь учинял! Он всегда любил риск и опасность. Однажды я ищу его повсюду, а его нет; зову – он не откликается; вдруг поднимаю глаза и вижу: он стоит на подоконнике в моей комнате. Мы жили на первом этаже, но ему еще не было четырех. Но чтобы вам стало понятно, что я пережила, расскажу еще одну вещь».
Она продолжает говорить с тосканским акцентом, сопровождая свою речь бурной и возбужденной жестикуляцией:
«Однажды утром, в Турине, иду я, держа ребенка за руку, по одному из центральных проспектов в поисках трамвайной остановки. Останавливаюсь на первой попавшейся и на мгновение отвлекаюсь, чтобы взглянуть на витрину магазина; обернувшись, понимаю, что кровь стынет в жилах: ребенка нет. В отчаянии я озираюсь по сторонам… его нет. Зову его: тишина! Не знаю, что вдруг заставило меня поднять взгляд, – видно, я уж не знала, куда смотреть, – и что же я вижу: он наверху! Взобрался на самую верхушку столба со знаком трамвайной остановки…»
«Погодите! Это еще не все! – продолжает она, прерывая изумленные восклицания собеседника. – У него с самого начала не было никакого аппетита, и я вынуждена была повсюду бегать за ним с кастрюлей в руке, чтобы засунуть ему в рот хотя бы ложку супа… Повсюду: за трактором, за мотороллером – везде!»
Если собеседник проявляет интерес к ее рассказу, тогда синьора Эди, заметно польщенная, без устали расцвечивает свой монолог множеством деталей, порой не слишком полезных с точки зрения экономии времени и не всегда правдоподобных, учитывая ее чрезмерную и ненасытную любовь ко всему яркому и парадоксальному.