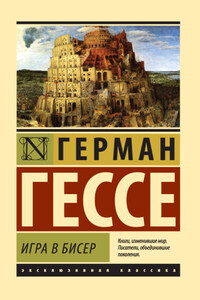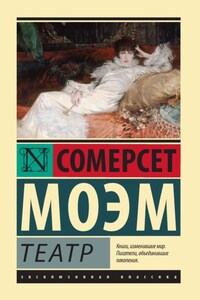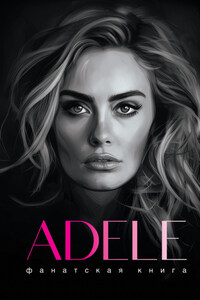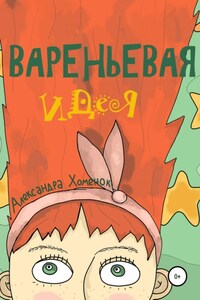Предисловие Йоргоса Сефериса
[1]
Если бы я мог свободно выбирать, где бы хотел находиться в 1939/40 учебном году, то присоединился бы к молодой аудитории Игоря Стравинского в Гарвардском университете. Возможно, я унаследовал нечто из традиций старинных средневековых гильдий. Именно в этом духе – с позиции ремесленника ушедшей эпохи – я понимаю слова Стравинского, когда он хвалит «несравненное инструментальное письмо Баха» и отмечает, что можно ощутить запах канифоли[2] его скрипок и почувствовать вкус язычков гобоев[3]. И в том же самом духе осмелюсь сказать, что заветы именитых мастеров могут иметь не меньший вес, чем их творения.
С того момента как этот великий композитор читал лекции в Гарварде, собрание сочинений о его жизни и творчестве пополнилось важными страницами. Я имею в виду его «Диалоги» с Робертом Крафтом[4], который сослужил Стравинскому ту же службу, что и молодой Эккерман[5] – Гёте. И все же я должен подчеркнуть – и настаиваю на этом, – что гарвардские «Лекции», не заменившие в свое время книгу Chroniques de ma vie[6] (Париж, 1935 год), лишь обогащаются новыми размышлениями о музыке и воспоминаниями, которыми Стравинский с тех пор с нами поделился, и ни в коем случае не устаревают.
Эти шесть лекций были опубликованы на французском языке под названием Poétique musicale sous forme de six leçons[7] и принадлежат к выдающейся серии лекций Чарльза Элиота Нортона по поэтике в Гарвардском университете. Первоначальный текст давно не печатается и сейчас уже недоступен.
Стравинский рассказывал, как он был благодарен, что смог проверить черновик этого текста вместе со своим другом Полем Валери[8], так как французский для него неродной язык[9]. Это сотрудничество двух приверженцев точности поистине очаровательно. Не менее очаровательна и поучительна и другая деталь, которой музыкант поделился с нами: «Даже сейчас, спустя полвека после того, как я покинул мир, говорящий на русском, я по-прежнему думаю по-русски, а на других языках говорю, переводя с него»[10]. Вавилонская башня и дух стремления к единству, я думаю, несовместимы.
Стравинский в Гарварде напоминает мне Поля Валери. Когда я учился в Париже примерно году в 1922-м, Валери очень много значил для меня. И позднее, когда я говорил с людьми старше меня, которые знали его, я всегда бывал тронут: они все любили Валери. Я никогда не забуду один осенний вечер в крошечном кабинете Т. С. Элиота в издательстве «Фабер и Фабер», когда поэт, написавший «Квартеты»[11], заканчивая наш разговор о Валери, произнес: «Он был настолько умен, что в нем вообще не было тщеславия».
И сейчас, когда пишу эти непритязательные строки, чтобы отдать дань уважения музыканту нашего времени, к которому всю свою жизнь испытываю сильную привязанность, я вспоминаю фразу из одного из писем Валери: «…en matière musicale les mots du métier ne me disent rien que de vague ou d’intimidant»[12]. Я разделяю эти чувства и потому сильно колебался, когда размышлял, стоит ли мне согласиться написать даже эти несколько слов. И мои сомнения только усилились от наблюдения самого Стравинского: «Как же обманчивы все литературные описания музыкальной формы!»[13] Это действительно так, и это не проблема одной лишь музыки. Я думаю, что в заблуждение вводит перенос всякого художественного замысла из среды, которая дала ему жизнь, в какую-то другую, которая неизбежно будет чуждой. Приведу пример.
Мы все знакомы с эпизодом из книги второй «Энеиды»[14], в котором змеи душат Лаокоона и его сыновей. Боюсь, было бы трудно утверждать, что картина Эль Греко (ею мы имеем возможность восхищаться в Национальной галерее в Вашингтоне), изображающая эту сцену, или знаменитая родосская скульптура передают точно, без искажения, замысел Вергилия. И то же самое можно сказать и о L’Après-midi d’un faune[15] Стефана Малларме и великолепном музыкальном сочинении Дебюсси, навеянном этим стихотворением. У каждого искусства свои средства выразительности и свой подход к материалу, который, благодаря творческой обработке художника, воспринимается неожиданно сильнее, представая в форме, отличной от той, в какой мы видим его в повседневной жизни. Так, слова выполняют совершенно разные функции в поэзии и в быту – когда, например, с помощью них мы объясняем что-либо другому человеку. Именно умение Стравинского объяснять удивляет и восхищает – как в его гарвардских «Лекциях», так и вообще в любых изданиях, на страницах которых он появляется и которыми мы можем время от времени наслаждаться.
Однако самое мощное выражение (я использую это слово в его точном значении) Стравинского мы должны искать не в царстве слов, а в царстве звука. Именно там он излил всего себя, там он оставил свой след как великий мастер музыки, как фигура, сопоставимая по масштабу с другим столпом нашего времени, Пабло Пикассо. Их произведения – выражения этих двух людей – оставили глубокий отпечаток на нашем времени, но следует помнить, что, если мы хотим испытать катарсис, чувство освобождения, даруемые ими, нам следует обращаться к самим работам, а не к словам-посредникам – бесчисленным словам, которые были о них написаны.
Однажды я заметил – возможно, беспечно преувеличив, – что, даже если язык, на котором мы говорим, свести к одному-единственному слову, хорошего поэта все равно будет легко отличить от поэта меньшего таланта. Пищу для таких размышлений мне дал отрывок, который Стравинский приводит в конце «Поэтики», приписывая его Ареопагиту: «Чем выше чин ангелов в небесной иерархии, – говорит этот святой, – тем меньше слов они употребляют, так что наивысший из всех произносит лишь один слог»[16].
Одно слово, один слог, один звук. Цель, к которой человек стремится, но никогда не достигает. Именно пройденный путь – долгая дорога, по которой мы идем вслепую, легко ее теряя и нащупывая вновь лишь с великим трудом, – вот что трогает нас до глубины души в жизни художника.
Я благодарен за то, что должен был написать эти несколько строк, так как в прошлом месяце у меня появился повод прослушать снова, в записях, бо́льшую часть произведений Стравинского и прочесть его «Диалоги». В одном из них – в интервью, которое попалось мне на глаза как раз вовремя, – он говорит о последних квартетах Бетховена следующее: «Квартеты – это хартия прав человека». И в другом месте: «В квартетах воплощена высокая концепция свободы»