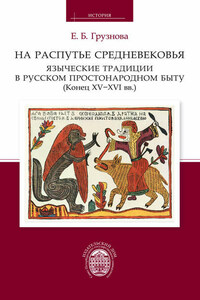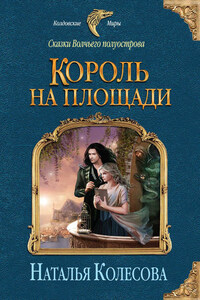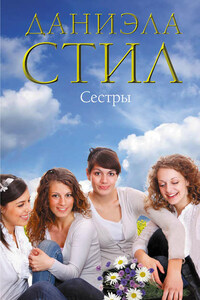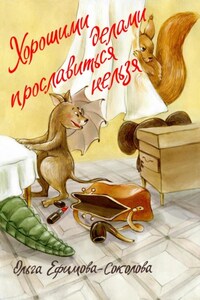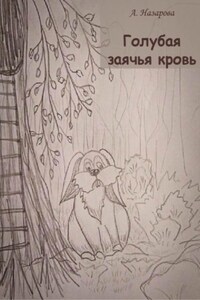Традиции любого народа формируются на протяжении многих столетий. На их возникновение и развитие влияет целый ряд самых разнородных факторов: генетические особенности этноса, природно-климатические условия его обитания, сложившаяся система социальных связей, взаимодействие с другими народами и культурами и т. д. Не является в этом плане исключением и русская культура. В наследии, доставшемся нам от наших далеких предков, немалое место принадлежит феномену, получившему название язычества.
Термин «язычество» был разработан христианскими теологами еще в начале новой эры для обозначения выпадающих из библейской традиции религий и верований.[1] Его возникновение восходит к ветхозаветному преданию о Вавилонской башне, строители которой жили в едином культурном пространстве, но были наказаны за свое стремление возвыситься над Богом и потеряли способность понимать друг друга. С тех пор единое человечество распалось на отдельные народы, каждый из которых стал обладателем собственного, отличного от других, языка и связанной с ним культуры. Христианство объявило своей целью преодоление этих различий путем приобщения всех людей, независимо от их происхождения, к общим религиозным ценностям. В этой ситуации прежние традиции зачастую становились тем тормозящим фактором, для преодоления которого требовались время, терпение, настойчивость, а зачастую и сила.
На Руси явное противоборство христианского и языческого начала развернулось с X в., после осуществления официального акта крещения. Однако долгое время эта борьба занимала умы в основном духовенства и господствующего класса, затрагивая интересы простых общинников лишь в наиболее кризисные моменты социальной жизни. Сам процесс христианизации в Восточной Европе протекал очень неравномерно и нередко принимал вид демонстративной замены старых святынь и обрядов на новые. При этом прежние идеалы не исчезали, но либо трансформировались в образы, максимально приемлемые для христианского учения, либо сохраняли свое место в новой системе ценностей как официально признанные примеры зла. По замечанию одного из исследователей русской демонологии Ф. А. Рязановского, «на Руси повторился процесс, имевший место в первохристианстве, а все, что имело отношение к язычеству, стало „бесовским“ и „сатанинским“».[2]
Таким образом, на Руси христианство «на всем протяжении древнерусской истории не произвело коренного перелома в сознании общества».[3] Это сознание оставалось языческим по самой своей сути. Все новое рассматривалось им через призму привычных представлений и так или иначе включалось в существовавшую картину мира. Влияние друг на друга двух противоборствующих культур было взаимным. Не случайно в начале XV в. кардинал Д’Эли писал: «Русские в такой степени сблизили свое христианство с язычеством, что трудно было сказать, что преобладало в образовавшейся смеси: христианство ли, принявшее в себя языческие начала, или язычество, поглотившее христианское вероучение».[4]
Исследователи не раз обращались к изучению особенностей русского язычества. Этой проблеме посвящены работы таких авторов, как Е. В. Аничков, Н. Я. Гальковский, Б. А. Рыбаков и др. Но ученых интересовал, как правило, древнейший, самостоятельный период существования рассматриваемого явления, поэтому они не выходили за пределы XIII в., полагая, что в последующий период язычество могло сохраняться лишь в виде суеверий и потерявших свой изначальный смысл пережитков.[5] Так, один из составителей «Очерков русской культуры XVI в.» А. К. Леонтьев считал, что «в XVI в. язычество сохранялось лишь во вновь присоединенных землях Севера и Поволжья, населенных нерусскими народами», у русских же оставалась вера в некоторых представителей языческого пантеона, которых церковь причислила к бесам, чем фактически их признала.[6]
Однако необходимо отметить, что в понятии «язычество» отразилось не только и не столько поклонение идолам, сколько обожествление сил и явлений природы и вера в возможность воздействовать на них магическими средствами. И если истуканов можно было просто уничтожить, то гораздо сложнее обстояло дело со сложившейся системой представлений, продолжавшей требовать воспроизведения привычных стереотипов поведения. Это происходило потому, что «мироощущение, видение мира человека аграрного по своей природе общества изменялось несравненно медленнее, нежели культура людей образованных».[7] «„Старина“, „обычаи предков“ – вот ключевые понятия, открывающие тайны духовной жизни и поведения крестьянства, идет ли речь об общинных распорядках, технических усовершенствованиях или религиозных верованиях».[8]
Подчеркнем, что на Руси этот тезис А. Я. Гуревича был актуален не только по отношению к крестьянству, но и для большинства городского населения, нередко также занимавшегося земледельческим трудом. Не случайно, по признанию специалистов, в низшие слои русского общества православие стало проникать только с конца XIII столетия на посаде и в XV–XVI и даже XVII вв. – на селе, а до той поры в массах практически безраздельно царило прежнее мировоззрение,[9] находившее воплощение в магической практике. Тем не менее по мере распространения христианства ситуация постепенно менялась. Трансформации, происходившие в социально-политической системе страны в конце XV–XVI вв., усугубили кризис системы ценностей архаического общества. Несовместимость этой системы с христианскими идеалами постоянно увеличивавшегося православного населения Руси, ее несоответствие потребностям зарождавшейся в недрах Средневековья культуры Нового времени, наконец, ее неготовность идеологически поддержать слияние отдельных русских земель в единый государственный механизм неизбежно должны были привести к сдвигам в решающей для любого традиционного общества сфере религиозной жизни.
Наблюдаемый во многих памятниках русской церковной литературы XV в. рост числа статей против языческих обычаев и верований, с одной стороны, и увеличение обличительных выпадов против духовенства – с другой, заставили большинство исследователей говорить о наличии в эту эпоху языческого ренессанса. Подобные представления вызвали справедливое удивление А. И. Алексеева.[10]Безусловно, ни о каком возрождении язычества говорить не приходится, ибо возродить можно лишь то, что уже исчезло, либо находится на грани вымирания. Языческие же традиции на Руси XV–XVI вв. были еще достаточно крепки. Не идет речь и о расцвете языческой культуры – в обществе, где церковь на протяжении нескольких столетий официально провозглашалась государственным институтом, это было бы по меньшей мере странно. Напротив, все свидетельствует о том, что новое дыхание обретало именно христианство, получившее соответствующие условия для нормального развития только после объединения государства и усиления центральной власти. Именно теперь церковь получила возможность составить полную картину положения религии в стране. Нарисовав же себе эту картину, духовенство смогло устранить некоторые нарушения в церковной жизни и наметить пути дальнейшего распространения и развития православия. Именно этим занимался ряд церковных соборов рассматриваемого периода, среди которых особо выделяется Стоглавый, разработавший программу деятельности церкви и государства в религиозно-нравственной сфере. Реванш язычества в подобной ситуации – не более чем видимость, объясняемая тем, что «связь с прошлым объективно наиболее резко ощущалась тогда, когда субъективно господствовала ориентация на полный с ним разрыв».