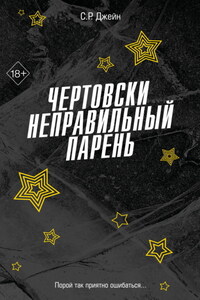Сегодня накрыли позже обычного. На
белоснежную скатерть, выглаженную безупречно, поставили три столовых прибора,
кофейник, молочник, сахарницу, блюдо с печеньем.
Я не люблю кофе. Мне больше по душе
обычный травяной чай из зверобоя, тимьяна, чабреца и липового цвета. Этот
запах, этот вкус – они напоминают мне о доме.
Моём доме под открытым небом.
Мой генерал сидит, закинув нога за ногу, в
плетёном кресле, и курит сигару. В его руках свежий выпуск газеты, который с
утра доставляет почтальон. За отдельную плату к восьми ноль-ноль. Он с важным видом
читаёт её, выпуская кольца дыма прямо в гостиной, а я в это время смотрю в окно
и мечтаю о птицах.
Этой ночью они особенно хорошо пели. Я не могла
спать. Вышла на балкон, открыв дверь настежь. Впустила прохладный воздух в
спальню. Генерал спит в пижаме и под двумя одеялами. Жалуется на холод. Наверное,
это старость. Я каждый раз ему об этом говорю, но он и слушать не желает.
Его выбор.
Мне, наоборот, жарко. Я выхожу в одной сорочке
с босыми ногами и с удовольствием подставляю лицо ветру. Если генерал
простудится, в этом буду виновата я. Его скверный характер не позволит вести правильный
образ жизни, вовремя принимать назначенное врачом лекарство и почаще отдыхать.
Но я не настаиваю. Быть может, так он скорее сойдёт в могилу, и я, наконец,
получу свободу. Я слишком долго о ней мечтаю, чтобы отказаться.
Наверное, это плохо – желать кому-то смерти.
Особенно своему ближнему. Но этот человек, с которым я делю постель, за столько
лет не стал своим. Мы всё так же чужие друг другу, и смерть одного из нас
станет для другого освобождением.
Мне хочется выйти в сад, пройтись босиком
по мокрой траве. Там слышно птиц ещё лучше. Там можно убежать, спрятаться –
туда, где он меня не найдёт. И я свешиваюсь через перила, готовясь к прыжку, но
потом сама себя останавливаю. В соседней комнате спит Даня, и ради него я не могу
сейчас уйти. Генерал всё точно рассчитал. Он знает, что я никуда не денусь,
пока мой сын здесь, на его территории. И я остаюсь здесь, в его роскошной
резиденции, в своей золотой клетке. Я ненавижу и этот дом, и его хозяина. Я
никогда не прощу его за то, что он со мной сделал. И если бы у меня в руках
сейчас был бы нож, я с удовольствием вонзила бы ему в самое сердце. Если знать
наверняка, что оно у него есть.
Есть люди – птицы. Певчие, перелётные.
Летают по свету, собирают знания, питают себя и других. Они живут под солнцем и
каждый новый день встречают радостной трелью.
Я
тоже птица, но с обрезанными крыльями. Мне нельзя летать высоко. Моё место –
возле хозяина. Того, кто завладел мной против воли. Он получил всё, что хотел,
кроме моего сердца. И что бы ни делал генерал, оно никогда не будет ему принадлежать.
Его я разделила на двоих. Одну половину отдала своему сыну, вторую – …
Вторая слишком далеко и, кажется, потеряна
безвозвратно.
А птицы поют и поют. И мне хочется думать,
что они делают это ради меня. Я закрываю глаза и улетаю вместе с ними. Туда,
где ещё можно быть счастливой. Туда, где снова взойдёт солнце.
Моё кхаморо.
– Надия, этот генерал глаз с тебя не
сводит.
Бойкая рыжеволосая Джонка (Джофранка –
полное имя) толкнула меня локтем и зашептала:
– Представительный. И одет хорошо.
Мельком взглянув в его сторону, я
заметила:
– У него лысина пробивается. И волос седых
полно.
– Ну и что с того? Говорят, если мужчина
волосы теряет, значит, оставляет их на любовном ложе.
Я фыркнула в ответ.
– Интересно, сколько лож он посетил?
– Вот сама и спросишь. Генерал в этот вечер
к тебе подойдёт и заговорит первым. Я это точно знаю. Джофранка – лучшая
гадалка. Любому может судьбу предсказать! – и в доказательство она подняла
вверх два указательных пальца, скрестила их и поцеловала.
– Вот и предсказывай ему, – посоветовала
я. – А мне ничего знать не нужно.
Джонка придирчиво осмотрела меня и
заявила:
– Ты недовольна чем-то, Надия. Посмотри –
у нас сегодня праздник. Люди веселятся.
– Не у нас, а у тех, кто по ту сторону. Мы
на этом празднике даже не гости.
– А ты бы по-другому хотела? – Джонка
заулыбалась. – То-то я смотрю, генерал тебе покоя не даёт. А ты станцуй для него,
Надия, и он нас всех золотом осыплет. Сразу душа начнёт радоваться.
– С таким – не начнёт, – хмуро ответила я.
И, оставив Джонку, скрылась за ширмой.
Мне не по душе такие гулянья. Когда собирается
толпа зевак, желающих поглядеть выступление нашей труппы – это дело привычное.
Свист, улюлюканье, аплодисменты, а позже – отбивание ритма музыки ногой в такт.
Мы – свободные люди, нам приятно выступать на улице, на площади, в поле – да
где угодно, лишь бы не в четырёх стенах. А здесь – почти что клетка.
У генерала юбилей. Ровно пятьдесят. И
отпраздновать он решил в своей летней резиденции на берегу Черного моря. Я
знаю, это такая мода – зимой квартировать в городе, летом приезжать сюда. Генерал
давно вышел в отставку. Накопил много денег. Он не работает и может себе позволить
жить как угодно. Ну, а мы, кочуя из одного места в другое, вот уже третий год
вынуждены жить здесь. Наш театр обеднел. На переезды денег не хватает. Баро
продал половину имущества, что у нас было, арендовал земли. Ромалэ построили
дома и вместе со своими семьями перебрались туда. Здание старого театра отдали
нам. Всё равно им никто давно не пользуется. Крыша прохудилась, фасад
покосился. Держится на честном слове. Но пока ещё стоит. И усилиями цыган
восстанавливается.
Я всегда мечтала выступать в театре. Настоящем,
большом. В детстве мама, заплетая косы, говорила: «Вырастешь, Наденька, будешь
великой артисткой. Будут тебе рукоплескать зрители и кричать: «Браво!»
Потом мамка ушла. Сбежала с каким-то
военным. Оставила в таборе дочку. Мне было лет семь или восемь, не помню точно.
Баро взял под своё покровительство, запретил всем обижать сироту. А как я сиротой
вдруг стала при живой матери, я тогда не понимала. Мне старая цыганка
объяснила:
– Мать твоя сама себя прокляла. Роду своему
изменила, с гаджо сбежала без благословения. Теперь не будет ей счастья ни в
чём. И тебя её проклятая судьба коснётся. Хоть от матери ты отречёшься, всё
равно после её смерти крест за ней подберёшь и будешь нести. И так до тех пор,
пока не вымолит чистая душа у Бога прощения за твой грех.
Мне тогда сложно было понять весь ужас
материнского проступка. Ясно одно: за грехи родителей отвечать будут дети. И с
того самого дня, как мать моя сбежала (считай – для табора умерла), я на себя
её грех приняла. И стала душа моя чернеть. Но поскольку осталась я сиротой, то
Баро взял меня под свою защиту. А это значило, что никто не смеет мне вред
причинить, пока я из девичьего возраста не выйду. Такие порядки были в таборе.