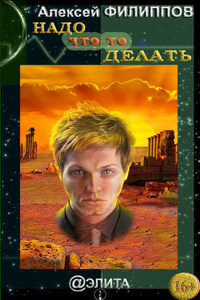Он тревожно встрепенулся, мгновенно стряхнул с себя плотную пелену сонного небытия, и тут же, проворно вскочив на ноги, стал пугливо озираться. Вообще-то пугаться здесь было некого, да и нечего. Разве тёмно-серых барханов из хорошо перемешанной смеси серой золы с песком. Эти барханы виднелись повсюду, и, казалось, их засилью нет конца. И начала тоже нет. Ни начала, ни конца. Они везде. И впереди, и сзади. А вверху тёмно-лиловое солнце. Холодное солнце. Тёплый песок и холодное солнце.
Человек вскинул лицо вверх, крепко тряхнул головой и пошёл. Пошёл куда-то вперёд.
Унылый однообразный тёмно-серый пейзаж, лишь кое-где с редкими чёрными пятнами, которые незамысловатыми узорами никак не могли порадовать взора путника. А впрочем, для чего ему радость? Он ведь не знал, что это такое. Он ничего не знал. Хотя, нет, неправда – он знал многое! Он знал, что в небе над ним солнце. Он знал, что солнце лилово и холодно. Он знал, что ноги его увязают в тёмно-сером песке, и то, что он обязательно должен идти. Куда идти? Вот этого он не знал. Он даже не знал, что означает слово «куда». Вот таким странным был этот медленно бредущий средь серого безмолвия человек. Внезапно в животе его заурчало, и он почувствовал, что голоден. Это мысль здорово обрадовала его.
«Я знаю, что такое «голоден», – подумал он, с трудом передвигая вязнущие в рыхлом песке ноги. – А ещё я умею радоваться!»
И он радовался тому, что умеет это делать. Странное было чувство: не знать что такое радость, но искренне радоваться. Что такое «радость», бредущий под лиловым солнцем человек точно не знал. Догадывался, что должно быть чем-то хорошим, но не знал в точности, что такое. А вот что такое «хорошо», знал хорошо. Хорошо – когда хотя бы что-то знаешь. Споткнувшись о торчащий из бархана кусок ржавой арматуры, он познал, что такое боль. А вот что такое ржавая арматура, знал и до этого! Странно устроен человек! Ковыляющий по пустыне человек знал, что он «человек». Понятия «человек» и «ржавая арматура» ему, конечно, ясны, и не просто ясны, а ясны до звенящей прозрачности. Всё, что попадало в эту прозрачность, было ясно, а дальше – кипящий туман. И из этого тумана иногда что-то вылетало в тесное прозрачное пространство. Вылетало и становилось там ясным. Таким ясным, что у человека получалось улыбаться.
– Я человек, – не разлепляя ссохшиеся губы, молвил путник. Промолвил и улыбнулся.
Да, он человек! Он прекрасно знал, что такое «быть человеком», а вот для чего надо «быть человеком» – не знал. И это очень страшно, когда не знаешь, для чего тебе надо быть тобой. А ещё он не знал, куда идти.
«Если бы люди знали, для чего им суждено быть людьми и куда идти, они бы ничего не боялись, – подумал внезапно путник и встал, как вкопанный, удивившись явившейся вдруг столь странной мысли. – Они же не знают и боятся. В первую очередь боятся себя. Значит они – трусы? И я трус, если не знаю, для чего мне здесь суждено быть».
– Я трус, я трус, – шипел человек, с превеликим трудом переставляя ноги. – Трус.
Он шипел до тех пор, пока не понял, что он и истинного значения слова «трус» не знает. Ему казалось, что «трус» – тот, который не знает, куда идти. А это вряд ли так? Вряд ли. Что-то в этом понятии скрыто и другое. Но что?
Человек остановился, чтобы перевести дух и собраться с мыслями. С мыслями, которые никак не хотели его слушаться. И ему стало обидно и грустно из-за их глупого непослушания. Грустно и обидно.
И тут путник понял, что он среди барханов не один. Точнее, сначала понял, что такое «не один», а потом прошептал тихо:
– Я здесь не один.
Над самым высоким барханом размеренно колыхалась бледно-голубая туманность. И на этой туманности то там, то тут часто вспыхивали зеленоватые искорки. Так казалось издалека. Но когда туманность приблизилась, а приближалась она весьма резво, то человек понял, что по поводу искорок он ошибался. Это не искорки вертелись стремительно, а странные гибкие буравчики. Именно буравчики, потому что никакого другого названия в ясной полосе сознания путника не объявилось.
– Буравчики, – прохрипел он, утирая тыльной стороной ладони пот. – Шустрые буравчики.
Буравчики оказались на редкость шустры. Они, стремительно вращаясь, далеко вылетали из туманности, жадно хватали пустоту и тащили в бледную голубизну тумана. Нет, я не оговорился, они хватали именно пустоту. И самое интересное даже не то, что они хватали пустоту. Нет, самое интересное, что на месте схваченной пустоты что-то оставалось. Только уже не пустота, а….
– Прах пустоты, – еле слышно выдавил из себя человек странную несуразицу, неведомо как посетившую просветлённую часть его разума.
Путнику вдруг захотелось потрогать прах рукой, благо один из вёртких буравчиков крутился в полуметре от него. Вот он – рядышком. Со стороны буравчика повеяло сладковатой прохладой, которая вязким комом и без спроса вползала путнику в горло. В горле сладкой прохладе понравилось, и она стала стремительно расти, мешая дышать полной грудью. Человек, хотя и дышал с трудом, но любопытства своего не утратил. Даже наоборот. Ему вдруг захотелось потрогать и таинственный буравчик. Прах это прах, а вот буравчик….
Путник протянул к нему руку, и словно миллионы микроскопических шипов вонзились в крайние фаланги среднего и указательного пальца. Человек взвыл и с ужасом почувствовал, что земля исчезает из-под ног.
Земля не просто исчезала, а стремительно тащила его в тёмную холодную и жёсткую бездну. То, что бездна твёрдая, жёсткая да к тому же противно скользкая, человек понял через боль. Что такое боль, он знал. Он ударился лицом раз, второй, третий! Потом боль пронзила плечо! Потом колено! Опять лоб! Боль. Боль. Боль. И вдруг не просто боль, а боль зверская: в спине, в затылке, а потом во всём теле. Боль до умопомрачения! Боль до крутящейся тьмы в глазах!
Как только озверевшая боль немного отпустила тело, человек понял, что лежит на дне бездны. Почему на дне? Он больше никуда не летел. А если ты никуда не летишь, то это всегда дно. Даже бездна имеет дно. Эту истину человек тоже знал.
Он попробовал сесть. Получилось, хотя в глазах беспокойно замелькали разноцветные круги. Круги долго не хотели успокаиваться и проворно мельтешили в неимоверно диком танце. Человек тряхнул головой, и вновь чуть не взвыл от боли. Боль пронзила шею до судороги. Однако нет худа без добра. Злая боль прогнала от глаз пляшущие круги, и человек увидел перед собой женщину. Она сидела метрах в полутора и сжимала в руке переносную лампу электрического освещения. Такие лампы когда-то были обыденным делом, а теперь стали в диковинку. Но эта диковинка – сущая чепуха перед грандиозным открытием. Он вдруг осознал, что мир состоит из мужчин и женщин. Он мужчина, а она, сидящая подле него – женщина. Единственное, что он не мог понять, так разницы, которая отличает её от него. Он видел её, но не видел себя. Он был для себя тайной.