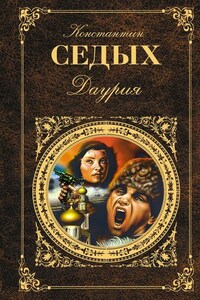1
К вечеру с Балтики потянуло сырым холодом. Ветер гнал сизую рванину туч над самыми крышами; временами на город обрушивался ливень, и тогда из водосточных труб шумно и гулко выплескивались пенистые потоки.
Потом ветер, как нередко бывает весной, внезапно утих. Небо осталось затянутым ровной, без полутонов, пеленой; лишь далеко на западе слабо желтела, словно приклеенная к серому холсту, полоса. Она не светила, но угадывалась, и постовой, выйдя на проспект, невольно повернул ей навстречу. Шел он медленно, вяло покачивая короткими руками, иногда останавливался на краю тротуара, точно не зная, куда бы пойти, потом переходил на другую сторону пустынного проспекта и шагал дальше по одному ему известному маршруту.
Участок был большой, но хорошо знакомый. За Нарвскими воротами брал свое начало проспект, бывший в старину Петергофским трактом. Серьезно он начал застраиваться после семнадцатого года, и разностильные дома, поднятые по его сторонам за каких-нибудь два-три десятилетия, зримо носили на себе отпечаток архитектурных веяний до- и послевоенного времени. И только верстовой столб, счастливо уцелевший на перекрестке, напоминал о том, что это была когда-то самая заурядная проезжая дорога.
Пересекали проспект узкие улицы, не столь светлые и чистые. Они вели к длинным глухим заводским заборам, складам, автомобильным паркам. Сюда же выходил задами небольшой сад. Зажатый с двух сторон зданиями, он ничем особо не привлекал, если бы не парадная решетка, на которую неизменно обращали внимание иностранцев гиды. Она не выглядела легкой, стройной, невесомой, как фельтеновская у Летнего сада, хотя и была отлита из того же металла. Наоборот, сложный рисунок, построенный на плавных линиях, завитках, словно застывших завихрениях волн, был массивен, груб, подобно кружеву, которое бы вздумали сплести из корабельных канатов. Посредине, между тяжелыми, оштукатуренными столбами-брусьями, чугунные ветви так же плавно огибали пустоту, образуя овальную раму. До революции, когда ограда стояла у Зимнего дворца, в рамах сидели двуглавые орлы. Но потом решетку перенесли сюда, гербы сняли, так ничем их не заменив, и она осталась стоять, внушительная и слишком уж роскошная, прикрывая со стороны проспекта этот невзрачный садик.
После полуночи наступала томительная пора дежурства. Тишина и безлюдье как бы тормозили время, и минуты тянулись мучительно долго. Постовой подошел к дворничихе, дремавшей у дверей парадной на деревянном ящике.
– Что, холодно? – спросил он глуховатым голосом, потирая озябшие руки. – Говорят, заморозки ожидают.
– А чего ж им не быть, – охотно ответила женщина, запахивая на груди ватник. – Ладожский лед пошел.
– Поздно что-то нынче.
– Так ведь и зима-то какая была, поздняя.
– Зима, – вздохнул милиционер и пошел.
На углу он услышал какой-то щелчок, похожий на далекий пистолетный выстрел, поднял настороженно голову, проверяя себя и оценивая, что бы это могло быть, взглянул на часы и быстро зашагал к саду…
Вскоре к старинной ограде подъехала синяя «Победа». Люди, поспешно вышедшие из нее, обогнули карликовый пруд, пробежали по центральной аллее и свернули на боковую. Впереди, натянув поводок, бежала овчарка.
На скамейке в конце аллеи сидел человек в коричневом пальто, запрокинув голову. Было похоже, что он спал. Сзади валялась в луже крови продырявленная пулей кепка. Старший, с погонами полковника, подошел к человеку, приподнял его руку, еще хранившую тепло, и отпустил. Она упала на колени.
– Когда вы услышали выстрел? – спросил он постового.
Тот ответил.
– А где вы находились в это время?
– У двадцать третьего дома. Ходил по той стороне, хотел проверить дворы, и тут – выстрел.
– Ходил, ходил, – ворчливо проговорил полковник Быков, глядя на скуластое напряженное лицо милиционера. – Ходите не там, где надо. Кто-нибудь вышел из сада, вы видели?
– Нет, никого не было. Это точно.
– Составляйте рапорт о происшествии и выясните, не видел ли кто-нибудь людей, выбегавших из сада. А вы, – кивнул полковник двоим в штатском, – приступайте к осмотру.
Шумский, невысокий, коренастый, чрезмерно суетливый, вынул из чехла фотоаппарат. Вспыхнул магний. Потом приблизил свет карманного фонаря к кожаному портфелю, лежавшему на скамейке рядом с убитым, нажал поочередно кончиком перочинного ножа на замки и открыл их.
В портфеле оказались серые брюки, ношеные, но отутюженные, завернутые в газету две новые рубашки из шелкового трикотажа, учебник высшей математики и несколько журналов «Новое время» на русском и французском языках.
– Студент, – предположил Шумский.
– А брюки-то ему должны быть великоваты, – развернув их, заметил Быков. – Что за газета?..
– Прошлогодняя «Ленинградская правда», – сказал Шумский.
– Посмотрите, почта не проставила номер квартиры?
Шумский наскоро обвел светом фонарика края газеты, согнул ее пополам и передал Быкову:
– Абсолютно чистая.
– Как у вас дела? – повернулся Быков к другому оперуполномоченному, Изотову, который молча, невозмутимо копался в карманах убитого.
– Все цело. Заводской пропуск на имя Красильникова Георгия Петровича, шлифовщика механического цеха…
– Его пропуск?
– Да, на фотографии он… Записная книжка, деньги, расческа.
– Сколько денег, вы посчитали?
– Семьсот восемьдесят три рубля[1].
Быков заложил руки за спину, прошелся по аллее грузной, размеренной походкой.
– Какое сегодня число? – спросил он, неожиданно обернувшись.
– Двенадцатое, – ответил Изотов. – То есть сейчас уже тринадцатое.
– Когда на заводах бывают получки?
– По-разному, Павел Евгеньевич. Первого и пятнадцатого, пятого и двадцатого. Где-то в этих пределах.
– Значит, двенадцатого числа в любом случае человек не может получить зарплату?
– Пожалуй, что так, – согласился Изотов, – если только ему не выдали командировочных.
– И если он не таскает сбережений с собой, – вмешался Шумский.
– Все у вас? – спросил Быков Изотова.
– Осталось осмотреть пальто.
В правом наружном кармане лежали мелочь, ключ, свалявшийся трамвайный билет. Из другого Изотов достал клочок бумаги, поспешно вырванный из тетради в линейку.
«Гоша! – читал Изотов, с трудом разбирая косой размашистый почерк. – Сложилось так, что нужно было уехать к 7 часам. Дома буду в 12 час. Извини, пожалуйста».
Записка была сунута в карман небрежно и скомкалась, но сначала кто-то сложил ее вчетверо, надписал тем же карандашом «Г. К.» и пришпилил кнопкой: в четырех местах виднелись проколы.
– Интересно, числа нет. Но есть что-то вроде подписи. Как ты думаешь, что это – «Л», «П» или «И»?
– Пожалуй, «П», – предположил Шумский.
– Да, на «П» больше похоже, – согласился Быков. – Учтите, записка может быть сегодняшней. Видите, какие сгибы? Как вы думаете, кто ее писал – мужчина, женщина?