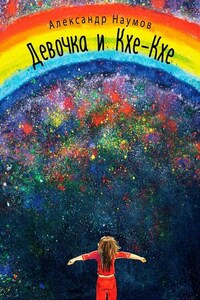Было около одиннадцати часов вечера. В Марселе в ожидании ниццского поезда, отправляющегося в полночь, сидели на станции в буфете трое русских: петербургский купец Николай Иванович Иванов, средних лет мужчина, плотный и с округлившимся брюшком, его супруга Глафира Семеновна, молодая полная женщина, и их спутник, тоже петербургский купец Иван Кондратьевич Конурин. Путешественники были одеты по последней парижской моде, даже бороды у мужчин были подстрижены на французский манер, но русская купеческая складка так и сквозила у них во всем. Сидели они за столиком с остатками ужина и не убранной еще посудой и попивали красное вино. Около них на полу лежал их ручной багаж, между которым главным образом выделялся сверток в ремнях с большой подушкой в красной кумачовой наволочке. Мужчины не были веселы, хотя перед ними и стояли три опорожненные бутылки из под красного вина и наполовину отпитый графинчик коньяку. Они были слишком утомлены большим переездом из Парижа в Марсель и разговаривали, позевывая. Позевывала и их дама. Она очищала от кожи апельсин и говорила:
– Как только приедем в Италию – сейчас же куплю себе где-нибудь в фруктовом саду большую ветку с апельсинами, запакую ее в корзинку и повезу в Петербург всем на показ, чтоб знали, что мы в апельсинном государстве были.
– Да апельсины-то нешто в Италии растут? – спросил Иван Кондратьевич, прихлебнул из стакана красного вина и отдулся.
– А то как же… – усмехнулся Николай Иванович. – Сам фруктовщик, фруктовую и колониальную лавку в Петербурге имеешь, а где апельсины растут не знаешь. Ах ты, деревня!
– Да откуда ж нам знать-то? Ведь мы апельсины для своей лавки покупаем ящиками у немца Карла Богданыча. Я думал, что апельсины так в Апельсинии и растут.
– Так ведь Апельсиния-то в Италии и есть. Тут губерния какая-то есть Апельсинская, или Апельсинский уезд, что ли, – сказал Николай Иванович.
– Ври, ври больше! – воскликнула Глафира Семеновна. – Никакой даже и губернии Апельсинской нет, и никакого Апельсинского уезда не бывало. Апельсины только в Италии растут.
– Позвольте, Глафира Семеновна… А как же мы иерусалимские-то апельсины продаем? – возразил Иван Кондратьевич.
– Ну, это какие-нибудь жидовские, от иерусалимских дворян.
– Напротив, самые лучшие считаются.
– Ну, уж этого я не знаю, а только главным образом апельсины в Италии, и называется Италия – страна апельсин.
– Вот-вот… Апельсиния, стало быть, и есть, Апельсинский уезд, – подхватил Николай Иванович.
– Что ты со мной споришь! Никакой Апельсинии нет, решительно никакой. Я географию учила в пансионе и знаю, что нет.
– Ну, тебе и книги в руки. Ведь нам, в сущности, все равно. Я хоть в коммерческом училище тоже два года проучился и географию мы учили, но до южных стран не дошел, и отец взял меня оттуда к нашему торговому делу приучаться.
– Ну вот видишь. А сам споришь.
Водворилась легкая пауза. Иван Кондратьевич Конурин аппетитно зевнул.
– Что-то теперь моя жена делает? Поди, тоже похлебала щец и уж спать ложится, – сказал он.
– Что такое? Спать ложится? – усмехнулась Глафира Семеновна. – Совсем даже можно сказать напротив.
– То есть как это напротив? Что ж ей дома одной-то об эту пору делать? Уложила ребят спать да и сама на боковую, – отвечал Конурин.
– А вы думаете, в Петербурге теперь какая пора?
– Как какая пора? Да знамо дело, ночь, двенадцатый час ночи.
– В том-то и дело, что совсем напротив. Ведь мы теперь на юге. А когда на юге бывает ночь, в Петербурге день; стало быть, не может ваша жена теперь и спать ложиться.
Конурин открыл даже рот от удивления.
– Да что вы, матушка Глафира Семеновна… – проговорил он.
– Верно, верно… Не спорь с ней… Это так… – подхватил Николай Иванович. – Она знает… Их учили в пансионе. Да я и сам про это в газетах читал. Ежели теперича мы на юге, то все наоборот в Петербурге, потому Петербург на севере.
– Вот так штука! – дивился Конурин. – А я и не знал, что такая механика выходит. Ну, заграница! Так который же теперь, по-вашему, Глафира Семеновна, час в Петербурге?
Глафира Семеновна задумалась.
– Час? Наверное не знаю, потому это надо в календаре справиться, но думаю, что так час третий дня, – сказала она наобум.
– Третий час дня… Тсс… Скажи на милость… – покачал головой Конурин. – Ну, коли третий час дня, то, значит, жена пообедала и чай пить сбирается. Она после обеда всегда чай пьет в три часа дня. Грехи! – вздохнул он. – Скажи на милость, куда мы заехали! Даже и время-то наоборот – вот в какие державы заехали. То есть скажи мне месяц тому назад: «Иван Кондратьич, ты будешь по немецкой и французской землям кататься» – ни в жизнь бы не поверил, даже плюнул бы.
– А мы так вот во второй раз по заграницам шляемся, – сказал Николай Иванович. – В первый раз поехали на Парижскую выставку, и было боязно, никаких заграничных порядков не знавши, ну а во второй-то раз, сам видишь, путаемся, но все-таки свободно едем. Слова дома кой-какие подучили опять же, и разговорные книжки при нас есть, а в первый раз мы ехали по загранице, так я только хмельные слова знал, а она комнатные, а железнодорожных-то или что насчет путешествия – ни в зуб. Глаша! Помнишь, как мы в первый раз, едучи в Берлин, совсем в другое место попали и пришлось обратно ехать да еще штраф заплатить?
– Еще бы не помнить! Да ведь и нынче из Берлина, едучи в Кёльн, чуть-чуть в Гамбург не попали. А все ты… Потому никаких ты слов не знаешь, а берешься с немцами и французами разговаривать.
– Ну нет, нынче-то я уж подучился. Суди сама, как же бы я мог один, без тебя, вот только с Иваном Кондратьичем ходить по Парижу, пальто и шляпу себе и ему купить, пиджак, брюки и жилет, галстухи и даже в парикмахерскую зайти постричься и бороды нам на французский манер поставить! И везде меня свободно понимали.
– Хорошо свободное понимание, коли из Ивана Кондратьича Наполеона сделали, вместо того чтобы самым обыкновенным манером подстричь бороду.
– А уж это ошибка… Тут ничего не поделаешь. Я говорю французу: «Эн пе, но только а ля франсэ[1], пофранцузистее». А он глух, что ли, был этот самый парикмахер – цап, цап ножницами да и обкарнал ему наголо обе щеки. А ведь этот сидит перед зеркалом и молчит. Хоть бы он слово одно, что, мол, стой, мусье.
– Какое молчу! – воскликнул Конурин. – Я даже за ножницы руками ухватился, так что он мне вон палец порезал ножницами, но ничего поделать было невозможно, потому, бороду мою большую увидавши, рассвирепел он очень, что ли, или уж так рвение, да в один момент и обкарнал. Гляжусь в зеркало – нет русского человека, а вместо него француз. Да, брат, ужасно жалко бороды. Забыть не могу! – вздохнул он.