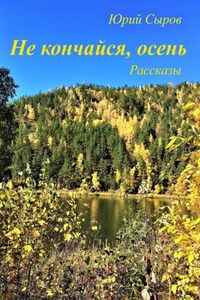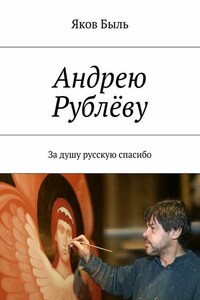«Христиане должны считать себя сораспятыми
Христу – на кресте вместе с Ним»
(стих 16)
Ну, здравствуй, подруга. Давно не виделись.
– Соскучился?
– Надоела.
– Не любишь ты меня.
– Тебя можно любить?
– А как же. Ещё как любят. Ненавидят, проклинают, боятся. Бывают редкие экземпляры, как был отец твой – смеются надо мной, издеваются! Всю войну за мной бегал, а не я за ним. А многие любят. Зовут, умоляют быстрее прийти… от мук избавить. К тебе сколько раз приходила… уж и не помню сколько. Привыкнуть надо бы друг к другу. А ты: «Надоела»!
– Я тебя никогда не звал, а ты приходишь и приходишь. Да сколько можно-то! Об одном прошу: быстрее забирай, да и пошли к дьяволу!
– Да вот, дорогой мой, и проблема-то в том, что Он никак всё не решит: к дьяволу тебя или – к Нему.
– Слушай, Смерть, грехов-то у меня столько! Сама знаешь. Что гадать-то?
– Знаю. Только моё дело маленькое: куда скажет, туда я и поведу. А Он к тебе пошлёт, а сам всё думает, думает. А я всё жду, жду возле тебя. Потом как крикнет на меня: «А ну-ка, брысь!» Самой надоело без конца к тебе бегать.
Будто налитые свинцом веки слегка приоткрылись. Ослепительно белый больничный потолок. Белый цвет – любимый цвет, но до чего же противна сейчас эта белизна!
– Надо. Ладно, ладно, надо. Умирать когда-то надо. Или поздно, или рано. Всё равно ведь надо, ладно…
– Что-то шепчешь?! Вот ты постоянно, как я приду, это шепчешь. Не пыжься. Всё равно ведь не услышит никто. Губы-то не шевелятся, да и нет никого. А я и так всё слышу.
Губы действительно не слушались, были онемевшими, будто в каждую из них вкололи по литру новокаина. Ноги становились все легче и легче, ощущалось нежное, прохладное покалывание, как иголками льда. И вот они вообще перестали ощущаться, словно отделились от остального тела. Вспомнилось, как перед операцией анестезиолог прошептала в самое ухо: «Сейчас слегка закружится голова, не пугайтесь, закройте глаза и засыпа…», от последнего слова в памяти только обрывок, дальше темнота и покой. А потом – пробуждение. Невыносимая боль в животе. Першение в горле от интубации. А как хорошо было под наркозом…
– Ты не могла бы за мной прийти, когда я усну.
– Да ты что! Он меня так только за праведниками отправляет. А ты, дорогой мой… Грехов-то не счесть. Всё возмущаешься, что правды нет на земле. А то ещё хлеще – повторяешь: «Все говорят: нет правды на земле. Но правды нет – и выше!» Ты это знаешь? Куда лезешь?!
– Он справедлив. Знаю. Раз делает так, как делает, значит нужно так. Только… трудно согласиться с тем, что дети невинные страдают, гибнут. А подлецы, сволочи живут припеваючи.
– Да почему же вы все меня за наказание принимаете?! Наказание или награда вас после ждёт. И детей страждущих и подлецов жирующих, про которых ты говоришь. А жизнь здесь вам не в награду даётся, а для испытаний! Для того, чтобы знать: куда вас потом – к дьяволу или к Богу! И слова эти дурацкие: «… правды нет – и выше» не повторяй за другими.
– Это же великий Пушкин!
– Пушкин… И Пушкин это за другими повторял. Я-то знаю, а ты чего бухтишь? Тебе до Пушкина… А всё равно Он долго решал: куда его. Два дня стояла, ждала. Грехов у Пушкина было… А ты все грехи-то свои помнишь? Прощает Он тех, кто грехи свои помнит и кается. А ты? Когда вспоминал? Когда каялся? А-а, то-то.
– Обо всём помню. И память эта всю жизнь душу гложет, это вечная боль моя за поступки, о которых другие и не вспомнили бы. А прощений у Него не прошу потому, что сам себя не прощаю.
– Ну, может, что и не знаю. Не моё дело про всех вас всё знать. А-а, вот: не венчаные живёте, во грехе!
– Дура ты. Любовь грехом быть не может. Любовь от Него, она – святая.
– А, забыл, как приходила за тобой: то ли в четвёртый, то ли в пятый раз? Ты о чём подумал тогда? Вспомнил? О том, что сын твой пятилетний может быстро тебя забыть! И надо тебе что-то срочно сделать, чтобы помнил он тебя подольше. А ведь это – гордыня! Гордыня, дорогой мой.
– Да, точно, помню. Это гордыня?
– А ещё раньше? Помнишь? Семнадцать тебе было. Лодку льдиной перевернуло, и ты, как самый старший и сильный, плыл в весенней воде и друзей тащил. О чём думал? Я помню, рядом была: «Утону, но ребят спасу! Зато потом героем будут считать!» Герой… Гордыня!
– Помню. Но ведь не только об этом думал. Не всё ты помнишь. Или не хочешь помнить. Злая ты.
– Да, не любишь ты меня. Да и я тебя. Надоело без толку ходить. А Он любит тебя. А.., Он всех любит. А ты о Нём только тогда вспоминаешь, когда за близких своих боишься. Молишься, прощения за их грехи просишь. Просишь наказать и послать на тебя то, чем Он хочет их наказать. За грехи других страдать хочешь? Считаешь, что ты как Он, что ли?!
Вот уж – гордыня.
– Любовь это, а не гордыня.
– Не оправдывайся. Хотя… душа у тебя чистая, светлая. Жалеешь всех, всем помочь хочешь. А всех ведь не разжалеешься! Вы, люди, разные все. Большинство – «у креста». А некоторые, ненормальные – «на кресте». И ты – «на кресте». Только не как Он, не думай. Рядом с ним. Хоть и не очень-то его почитаешь, но живёшь – как Он велел. И не потому, что Он велел, а потому, что по-другому не можешь. Счастье для тебя – делать счастливыми других. Он знает, что ты никогда не отказал в помощи, кому она нужна была. Знает, что за это частенько отвечали плевком в сердце тебе. Знает, что не озлобился, считаешь, что это его право: карать, прощать! Знает, что сердце твоё преисполнено болью, состраданием и милосердием. Вот и не может никак решить: куда тебя…
– Слушай-ка, подруга, а мне что-то легче стало.
– Ох и надоело же мне это всё! Пусть Сам за тобой потом идёт! Ну да ладно, куда я денусь. Ну, пока – не прощаюсь. Как там в твоей считалке: «…или поздно, или рано, всё равно ведь: надо, ладно…», так? Помни: на кресте или у креста. Только… будешь на кресте – раньше приду!