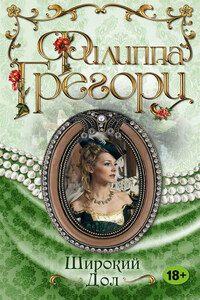«Вечер, поезд, огоньки, дальняя дорога…». Меня немножко штормило, я думал от чувств – как хорошо я справляюсь с вдруг навалившимся горем. Поезд стоял полминуты – только я влез, и поехал. Забросив сумку на полку, я ушёл в тамбур курить – было так горько, что я онемел, в оцепененьи смотрел, как разбивают всё внутри меня, крутятся мутные пятна. Тоска душила за горло, и, чтобы не умереть, оставалось вскрыть грудь, раздвинуть мышцы и ребра. Я понимал – экзальтация, и я стоял, глядя, как очень большой водопад – падает, падает в воду. Но легче не становилось. Вагон порою скакал, как лошадка, кидал меня на металл ржаво-красной стены, и приходилось, как в матросском танце, перебирать хаотично ногами. «Дай ка, братец, мне трески и водочки немного». Спать тебе нужно, лечь, скорчиться, спать – «водочку» не заслужили. И я пошёл через тёмный вонючий вагон к себе на верхнюю полку – не было сил брать постель, не было сил раздеваться. Влажную куртку под голову, и отрубился. Когда проснулся, был день, когда второй раз проснулся, то – ночь, сходил, скурил сигарету. Лицо обвисло и ныло, как и всё внутри, и – жить-начхать, всё всегда было бредом – только б обратно на полку. Днём меня вдруг растолкал проводник, а просыпаться я так не хотел – что-то большое плыло, надвигалось, и было ясно – там горя не будет. – Ты ещё жив? Встать-то можешь? – Да, да, наверное, встану, а что случилось? – Вот встань, посмотрим. – Я слез, всё плыло, даже глаза было трудно настроить, страшно мутило, и ноги дрожали. – Опа, а что-то не так, как будто я отравился. Лучше мне лёжа. – «Басан-басан-басана, басаната-басаната, лезут в поезд из окна бесенята, бесенята.» – Ну наконец-то допелся куплет, очень уж долго он пелся. Но ни кто не лез, а темнота, да, была, серая мягкая вата, хотя, конечно, живая. Потом на станции где-то был врач, а ночью – Харькiв, носилки к вагону, большая шумная площадь, тряска, приёмный покой, и – на стол, «…резать».
– Тебе ещё повезло, к нам профессор зашёл, к ученику, и он тебя оперировать будет. – Я обернулся, но женщина уже ушла, вскоре пришёл, весь шутливый, мужик и начал резать – не больно. Через час сделалось скучно, «А за соседним столом компания…» – кого-то резали сложно. Наркоз был местный, и на третий час он стал уже отходить, тупая боль ноем ныла, но я заметил одну медсестру, что в миниюбке, туда и сюда, без конца бегала мимо – а стол-то низкий. Видимо я прокололся, и врач заметил, как я верчу головой, он подозвал её – Постой-ка тут. – Так и зашили, почти без наркоза. Кругом всё белое, гладко-блестящее было, и много-много слепящего света. А отвезли на каталке – «Нет, я не понял…», темно… – Ты полежи, милый тут, там палата ещё не готова. – Из полумрака сказала старушка, и растворилась в нём за поворотом. Вскоре глаза понемногу привыкли – арочный очень большой коридор, из его сводчатых окон шёл ночной давящий свет, перемежаемый тенями листьев. Рядом, стояли каталки, только, похоже, пустые. Меня бил сильный озноб, ведь под одной простыней – холодно, неимоверно, да и наркоз отошёл до конца – адская боль во всём теле. Час ли прошёл, я не знаю, когда заметил – я здесь не один, а под стеной на полу, придвинув ноги к лицу, сидит в тени мартышонок. Маленький, в два кулака – сидит и смотрит. Детские глаза, большие, на чуть-чуть сморщенном сером лице глядят печально и мягко. Серая шкурка пушисто сливается с тенью, он не шевелится, просто всё видит. И я смотрю на него повернувшись, боюсь спугнуть, тоже замер. Чернота сверху, повсюду, нависла, хочет пройти между нами, если я вдруг отвлекусь, и она здесь пройдёт – то потеряю его, потом уже и не сыщешь. Время идёт очень долго. Озноб колотит всё тело и отдаётся, особенно, в швах, но и ему не хочу я позволить отвести мои глаза. Я начинаю уже понимать, что видят эти глаза – совсем не так и не то, что я знаю. Тело моё для него слишком бело и сухо, ему смотреть на него неприятно, а важно то, что во мне – как будто мягкая жидкость. И не просто важно – ради неё он приходит сюда, если он будет хорошим и чистым, то эта жидкость к нему перейдёт, перетечёт в эти добрые очень большие глаза – она сама себе знает, где лучше. И что-то перетекает. Я становлюсь суше, глуше. Только в какой-то момент я поплыл, то есть меня понесло над бледно-кремовым морем – вперёд и вправо.
Очнулся я уже в палате, когда меня выгружали с каталки – озноб бил совсем свирепо, боль в животе выжимала мне мозг. Я попросил, чтоб накрыли вторым одеялом. А мартышонок совсем не исчез – я научился уже ощущать, что он поблизости, даже не видя. И я ещё у него научился – осознавать эту мягкую жидкость в других и ценить только её, через неё быть единым со всеми, жить вместе с ними их жизнью. Ну и спасибо за это ему, но и меня подоил он неплохо – и через множество лет полнота чувств не до конца возвратилась – тупо всё и схематично. И лишь недавно я вспомнил его и глаза (они всем верят), и мы смотрели друг в друга, и ко мне что-то вернулось.
Когда проснулся, был день, всё болело, дрожь хоть прошла, но, всё равно, было зябко, сил ни на что не осталось. Когда с трудом повернулся на бок, то увидел – рядом лежит худой «синенький» парень – Ты с операции тоже? – Да, нас там резали вместе. Вот, мандарины мне мать принесла – бери, пожалуйста, сколько захочешь. – Приподнял голову – глянул, странный оранжевый цвет от шершавых шаров на его тумбочке рядом, как молотком, стукнул зренье. – Позже, спасибо. – Я вновь отключился. Снова открыл глаза уже под вечер – нянечка меня трясла. – На ка, вот выпей таблетки. – А где тот парень с соседней кровати? – Перевели его… – И она вдруг отвернулась. – Ешь, вот его мандарины остались. – Положив их на мою тумбочку рядом, не обернувшись, она вдруг ушла, а я опять провалился.