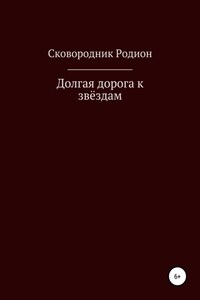Все благомыслящие люди в Европе посвящают теперь свои досуги справедливому изумлению – как это так неаполитанский народ порешил с Бурбонской династией?! Не то удивительно, что восстание произошло: в королевстве Обеих Сицилии восстания нипочем; всем известно, что Италия, по крайней мере со времен Тарквиния Гордого, всегда была страною заговоров, тайных обществ и тому подобных ужасов…{1} Надобно же что-нибудь делать заговорщикам – вот они и пошаливают; и там уж все к этому привыкли, так точно, как у нас в старые годы ямщики были приучены к тому, что «пошаливали» известные люди на больших дорогах. Известно, что при Фердинанде II, например, для знаменитого начальника полиции Делькаретто{2} составляло немалое удовольствие – следить втихомолку за постепенным развитием заговоров, в которых принимали участие его агенты, дождаться, пока австрийская полиция получит неопределенные сведения о заговоре и с испугом уведомит о нем неаполитанское правительство, – и потом накрыть заговорщиков и доказать австрийцам, что они в этих делах ничего не смыслят. Все подобные шалости оканчивались обыкновенно ко всеобщему удовольствию, домашним образом, и законное правительство нимало оттого не страдало. Поэтому и в нынешнем году, когда началось восстание в Сицилии{3}, благомыслящие люди над ним смеялись; когда Гарибальди явился в Палермо{4}, над его дерзостью тоже подсмеивались. Когда Сицилия была очищена от королевских войск и Гарибальди готовился перенести войну на материк Италии, легитимисты потирали руки, приговаривая не без язвительности: «Милости просим! вот теперь-то мы и посмотрим вашу храбрость, благородный кондотьери!»{5} Даже когда он появился в Калабрии{6}, и тут благоразумные люди хотели выразить полное пренебрежение к его предприятию, но, к сожалению, – не успели: Гарибальди так быстро добрался до Неаполя, что за ним не поспело даже перо Александра Дюма, бесспорно величайшего борзописца нашего времени{7}. Зато благомыслящие граждане с избытком вознаградили себя, когда защита Капуя обещала обратиться во что-то серьезное: они положительно объявили, что Франциск II только по великодушию удалился из Неаполя, чтобы не подвергать свою столицу ужасам войны{8}, но что он отстоит свои права и что народ, опомнившись от своего безумия, повсюду уже призывает законное правительство. И вдруг – все надежды рушатся: на этот раз восстание оканчивается совсем не так, как обыкновенно; оно принимает нестерпимо серьезный характер, такой серьезный, что даже политика Кавура, при всей своей трусости, решается открыто вмешаться в дело…{9} А тут является еще новое изобретение – suffrage universel;[1] 1300000 голосов против 10 000 определяет присоединение к Пьемонту;{10} последний из Бурбонов истощается в последних воззваниях к меттерниховским трактатам{11} и к верноподданническим чувствам своего народа; но ничто не помогает, он теряет Капую и видит себя в необходимости оставить свое последнее убежище, свою милую Гаэту, 12 лет тому назад восприявшую в свои стены святейшего отца и счастливую столькими благородными воспоминаниями…{12} «Шаривари» и «Кладдерадач» изо всех сил издеваются над проницательностью благомыслящих людей{13}, и они уже ничего не находят лучшего, как сказать, что это англичанин нагадил…{14} Конечно, читатели, англичанин – такой человек, что всюду нос сует и везде гадит по возможности; но если вы припомните единодушные отзывы всей европейской прессы о неаполитанцах, то согласитесь, что, по всем видимостям, это был такой народ, которого и изгадить-то не было никакого средства. Кто и как мог дойти до того, чтоб развратить его до такой степени? – это вопрос чрезвычайно курьезный. Конечно, он практического значения, может быть, и не имеет, и вы скажете, что не стоит им теперь и заниматься, когда дело порешено окончательно. Но что прикажете делать, если «Современник» страдает некоторой слабостью упражняться на поприще мышления почтенного Кифы Мокиевича!{15} Он печатает стихи на взятие Парижа, если бы оно случилось (хотя всякий знает, что оно случиться не может), делает невозможные выкладки относительно выкупа и сельской общины, толкует об антропологическом принципе в философии{16} и т. п. Конечно, все это непрактично и бесплодно; но что же делать? Надо с этим примириться, хотя в уважение того, что в «Современнике» же печатаются иногда капитальные труды вроде, например, «Поземельного кредита» г. Безобразова{17}. Притом же известно, что кто хочет практичности, дельности, кто желает всегда быть на высоте самых насущных и настоятельных требований общественной жизни, тот должен читать «Русский вестник»; там он найдет и прекрасные письма г. Молинари о русском обществе, и мысли г. Герсеванова «о жалованье предводителям дворянства», и статьи об устройстве черкесов, обитающих на берегу Черного моря, и заметки г. Сальникова о паспортах{18}, и тьму заметок по вопросам еще более капитальным. «Современник», как всякому понятно, преклоняется пред мудростью «Вестника» и ограничивает свои претензии гораздо более скромною ролью: занимать иногда досужее любопытство праздного читателя какими-либо курьезными размышлениями. Помните, как в одной комедии Островского Устенька или Капочка предлагает для развлечения общества поддерживать занимательный разговор о том, «что лучше – ждать и не дождаться или иметь и потерять»?{19} Так и мы теперь для вашего развлечения, читатель, задаемся вопросом: что за странность такая, что неаполитанский народ обманул самые справедливые надежды всех благомыслящих людей? Где объяснение этой странности?..
Надеемся, что мы не снискали еще права на особенное благоговение читателей перед нашими мнениями и потому можем, не опасаясь никого повергнуть в горькое разочарование, признаться, что решить заданного вопроса мы не умеем. Но зато мы обещаем добросовестно передать читателям мнение благомыслящих людей, имевших всю возможность знать положение дел в Неаполе. На эти-то мнения мы и просим обратить внимание, постоянно имея в виду, что мы собственного мнения на этот счет не имеем[2]. Чтобы сказать что-нибудь положительное о причине странной неожиданности, поразившей Неаполь, надо бы знать народ неаполитанский; а мы его не знаем, да и кто его знает? Уж конечно, не иностранные туристы, рассказывающие бог знает что и о народе и о правительстве; конечно, и не журналисты, печатающие об иных странах такие корреспонденции, что, пожалуй, им и любой турист мог бы позавидовать… На мнения и рассказы таких людей положиться нельзя, тем более что, по уверению весьма почтенных людей, неаполитанский народ чрезвычайно сдержан, недоверчив и не любит высказываться пред чужими. Вот что говорит, например, виконт Анатоль Лемерсье в начале брошюры, изданной им в начале нынешнего года: «Несмотря на частные сношения Неаполя с Францией, несмотря на легкость сообщений, менее чем в два дня переносящих вас из Марселя в столицу королевства Обеих Сицилий, редкий народ так мало известен французам, как неаполитанцы. Правда, туристы печатают множество рассказов о своих путевых впечатлениях, в картинах и гравюрах воспроизводятся во всех видах местные пейзажи и костюмы, журналисты не упускают случая обсудить по-своему – и положение дел, и людей, и политику королевства; но неаполитанцев нельзя узнать ни по путевым впечатлениям, ни по рисункам артистов, ни по журнальным оценкам; нужно много времени, много случаев и средств, чтобы добраться до истины относительно этого народа, который при легком наблюдении всегда останется непостижимым. Нужен постоянный и долгий навык, для того чтобы, среди обдуманного притворства, открыть истинное состояние этого народа. Писатели всех стран в продолжение стольких лет клеветали на Неаполь, что неаполитанец теперь питает крайнее недоверие к иностранцам. Только с большим трудом поэтому можно достигнуть до открытия истины; и если особенные благоприятные обстоятельства не помогут вам, вы никогда в этом не успеете»