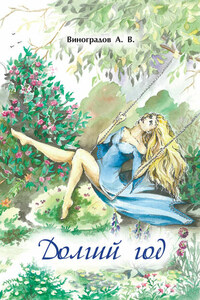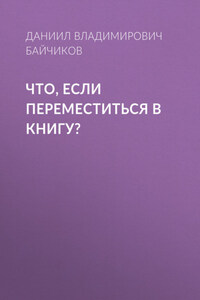Передо мной вновь разложены листы чистого нетронутого строками пергамента.
Рука, что держит гусиное перо, тянется к чернильнице. На его остро очиненном конце дрожит маленькая капля.
Я неторопливо стряхиваю ее, ведь я надеюсь, что у меня еще есть немного времени, чтобы обдумать, с чего же все-таки снова начать свою бесконечную исповедь.
Пусть в первых строках не будет помарок. Может, это поможет мне проницать то, что все это время скрыто от моего разума во тьме забвения и покрыто прахом бесконечных веков. Может, спасение в этом? Может, не пиши я столь лихорадочно – а, поначалу обдумав и вспомнив ушедшую жизнь – я пойму, где же все-таки совершена ошибка? Может, наконец-то придет долгожданное избавление?
Сейчас этого я не знаю – ответ от меня до поры скрыт. Но я надеюсь, что наступит наконец-то миг, когда я уже не увижу перед собой чистых пергаментов, нетронутых моею рукой; когда наконец-то они сошьются в толстый фолиант, который мне не будет нужды читать, ибо каждую букву в нем я знаю, потому что все слова выстраданы быстротечными дневными минутами и тем бесконечным временем, что приходит ночью.
Сквозь узкое, прорубленное высоко под потолком оконце, струится тусклый свет. Он падает на желтоватые, потемневшие от времени листы. Света едва хватит на то, чтобы разобрать, что будет на них занесено.
Свет.
Что находится за стенами моей узкой кельи – я не знаю.
В первый же миг, как только попал сюда, мною овладело исступление. Мне захотелось выяснить, что это за место? Где же все-таки я нахожусь? Куда я попал?
Я бросился к двери, с усилием распахнул ее и ничего за ней не увидел. Ничего. Лишь серый тусклый сумрак, уходящий в неведомую даль.
Шагнуть за порог я не смог, от увиденного меня обуяла дрожь, и нечто всемогущее не дало мне ступить дальше. Я понял: тут нет ни солнца, ни голубого неба; тут нет ни земли, ни воды; тут нет воздуха, ни даже его дуновения – и за стенами кельи висит лишь безмолвный тусклый свет и сама она будто бы парит в бесцветном небытие.
Тут нет ничего, даже самого времени: тут минуты сливаются в часы, часы в сутки, сутки в годы, годы в столетия.
Попыток выйти из своего узкого каменного узилища я больше не делал. Лежащий на столе пергамент ждал и звал меня. Против своей воли я направился к столу и уселся за него. На нем стояла чернильница, и лежал пучок перьев. Рука, не повинуясь мне более, выхватила очиненное перо, и я лихорадочно вывел первые буквы на первом листе.
С той поры ничего не меняется. Трудно понять, в какое время суток я приступаю к записям. Я этого не знаю. В этом месте нет утра, нет дня, нет вечера. Есть лишь тусклый свет из оконца.
Каждое утро (так я назвал тот миг, когда я вновь вижу перед собой первый чистый лист) рука моя вновь берет гусиное перо и тянется к чернильнице.
И каждый вечер (когда тусклый свет меркнет в маленьком оконце) я заканчиваю рукопись. К приходящей ночи листы пергамента из покоящейся на столе пачки почти полностью исписаны, но всегда остается незаполненным один, последний лист. Я что-то упускаю, из разума моего ускользает понимание, и времени вспомнить и осознать ошибку мне уже не остается.
Отведенные для исповеди блеклые часы летят стремительно, а приходящая за тем ночь длится нескончаемо долго. Лишь ночью я в полной мере ощущаю тягучее время. Но тогда я уже не нахожусь в этой узкой келье. Неведомая и беспощадная сила, не дающая мне покинуть келью днем, ночью выводит меня за дверь для наказания. Противиться ей я не могу. Так тут заведено.