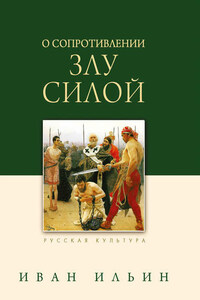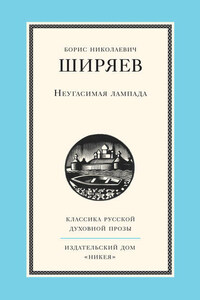Над гребными колесами привезшего нас на Соловки парохода алела полукругами ясно заметная издалека надпись «Глеб Бокий»; но плоха ли была краска или маляру не хватило олифы, – присмотревшись, вблизи можно было прочесть другую, скрытую под ней, крепко, глубоко всосавшуюся в оструганные еще на монастырской верфи доски – «Святой Савватий».
Есть годы, скручивающие тугим, неразрывным узлом столкнувшиеся во времени века, сплетающие в причудливый до невероятия узор прошлое с будущим, уходящее с наступающим. В них то сходятся, то расходятся, обрываются и снова возникают нити человеческих жизней, развертывается ткань сомкнутых поколений, но, лишь отойдя на грань положенного срока, можно разобраться в загадочных извивах их узоров. Такими я вижу теперь Соловки первой половины двадцатых годов, последний монастырь – первый концлагерь, в котором прошлое еще не успело уйти и раствориться во времени, а предстоящее слепо, но упорно прощупывало, пробивало свой путь в жизнь, в бытие.
Соловки – дивный остров молитвенного созерцания, слияния духа временного, человеческого с Духом вечным, Господним.
Темная опушь пятисотлетних елей наползает на бледную голубизну студеного моря. Между ними лишь тонкая белая лента едва заметного прибоя. Тишь. Покой. Штормы редки на Полуночном[1] море. Тишина царит и в глуби зеленых дебрей, где лишь строгие черницы-ели перешептываются с трепетно-нежными – таких нежных нигде, кроме Соловков, нет – невестами-березками. Шелковистые мхи и густые папоротники кутают их застуженные долгой зимой корни. А грибов-то, грибов! Каких только нет! Кряжистые, похрустывающие грузди, подосинники – щеголи красноголовые, боровики – купцы московские, тугие – не уколупнешь, робкие белянки, укрывшиеся под палой, пахнущей сладимой прелью листвой, стыдливые, как невесты на выданье, а к осени – ватаги резвых, озорных опенок лезут, толкаясь, на пни и валежник…
Остров невелик, длиной 22 версты, шириной 12, а озер на нем 365 – сколько дней в году. Чистые, ясные, студеные, битком набиты они стаями шустрых, игорливых ершей. Донья – каменистые; круглые, обточенные веками булыжники пригнаны плотно друг к другу, словно на московской мостовой. В полдень видно все, что творится на дне, каждый камешек, каждую рыбешку… Дебря соловецкая мирная. Святитель Зосима вечный пост на нее наложил: убоины всем тварям лесным не вкушать, а волкам, что не могут без горячей крови живыми быть, путь с острова указал по своему новогородскому обычаю. Волки послушались слова святителя, поседали весной на пловучие льдины и уплыли к дальнему кемскому берегу. Выли, прощаясь с родным привольем. Но заклятия на них святитель не наложил.
– И вы, волки, твари Божие, во грехе рожденные, во грехе живущие. Идите туда, на греховную матерую землю, там живите, а здесь – место свято! Его покиньте!
С тех пор лишь робкие, кроткие олени да пугливые беляки-зайцы живут на святом острове, где за четыре века не было пролито ни капли не только человечьей, но и скотской горячей крови.
Множество древних сказов записано узорной вязью древнего полуустава на пожелтелых листах соловецких летописей, разметанных налетевшей на святой остров непогодью и снова собранных по темным подклетям пришедшими в монастырь новыми трудниками.
Множество чудесных былей рассказывали и чернецы, оставшиеся на Соловках по скончании монастыря. Многое, уже забытое на Руси, они еще помнили. Недаром чутко слушавший народную молвь поэт писал:
Господу Богу помолимся,
Древнюю быль возвестим.
Так в Соловках нам рассказывал
Инок честной Питирим…
Теперь иноки эти – рыбаки на службе у лагерного управления, а отец Софроний даже советский чин имеет: начальник рыбоконсервного завода. Один лишь он знает стародавнюю тайну засола редкостной соловецкой сельди. Другой такой в мире нет: жирная, нежная, во рту тает, не уступит ни белорыбице, ни осетровой тешке. В древние времена обоз такой сельди по первопутку из Кеми в Москву уходил – к самому царю. Жаловал Тишайший монастырскую рыбицу и вкушал ее на Филипповки, а к Великому посту она уже вкус свой теряла, черствела. Об этих обозах в «кладовых листах» не раз писано, а в «рухольных» – ответные царские дары мечены: златотканые ризы парчовые, золотые панагии и чаши, убранные самоцветами, заморского веницейского мастерства, шелковые платы, покровы и плащаницы, вышитые нежными перстами дочерей царских, московских великих княжон.