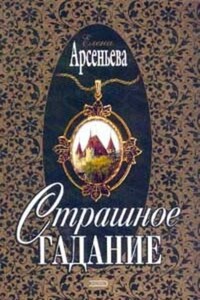Была уже ночь, когда Ерасимов возвращался домой. В стеклах тлел лунный свет, на углах мерцали недобитые фонари.
Влажно, горьковато пахли тополя. Ветер сдул все сережки, и утром тротуар казался усыпанным малиной. Сейчас под ногами тихонько похрустывало. Ерасимов старался ступать мягче, но тут же забывался, й шаги его опять становились тяжелыми шагами обиженного человека.
Вдруг впереди послышалась возня.
Ерасимов поднял голову. Под аркой сопел мужчина:
– Да погоди!.. Да куда ты!..
Резко, тонко стонала женщина.
У Ерасимова мурашки по коже побежали. Ноги сами понесли его в подворотню.
Там было темно и узко, как в горлышке пивной бутылки. Ерасимов даже размахнуться не мог, не ободрав кулака о кирпичные стены, он не различал ни правого, ни виноватого, а потому сгреб обоих в охапку и выволок на тротуар. Женщина сразу поникла на землю, а мужчина рванулся было, да Ерасимов держал крепко.
По сравнению с провальной тьмой подворотни здесь, под звездами и луной, было очень даже светло, и обидчик показался Ерасимову чем-то знакомым – и уж совсем не похожим на злодея-насильника: небольшой, толстенький, мягкий, словно бы даже пушистый: такое впечатление производили его волосы и курточка.
– Скотина! – крикнул Ерасимов, треся его что было сил.
– Да я не… я не… – заикался в его руках мужичок. – Да нужна она мне семь лет!
Обидчик был пьяноват, поэтому не столько испугался, сколько возмутился. Дергался, как жирненький карасик на крючке, и пыхтел:
– Пусти! Ты что?! Я же Генка Щекиладко, из котельной! Со смены шел, а она…
Ерасимов вспомнил, что и правда слышал фамилию Щекиладко на одном из собраний, еще когда работал на заводе, да и видел его, конечно. А Щекиладко продолжал рваться:
– Я ее поймать хотел. Показать!..
– Зачем? – не понял Ерасимов. – Кому? Что показать?
На миг он ослабил хватку, и Щекиладко выскользнул. Отскочив, крикнул:
– Нужна она мне! Я семейный! Двое пацанов! Да ты погляди, погляди только! Она же босая и… – Тут он произнес какое-то слово, Ерасимову послышалось – «горбатая», а Щекиладко, словно понимая что ему ничего больше не грозит, двинулся под арку, демонстративно напевая:
– Ай ку-ку, ай ку-ку, мне бы тол-стень-ку!..
Ерасимов наклонился над женщиной. Она неловко вытянулась – похоже, в обмороке; ноги у нее были босые, а под просторными складками серебристого плаща угадывался… горб.
И правда горбатая!
– Убогую обидел! – прорычал Ерасимов и на миг удивился этому слову в своих устах. – Я тебе!.. Гад!
Но Щекиладко рассыпал вдали такую частую дробь шажков, что стало ясно: его уже не догонишь.
Ерасимов опять склонился к женщине. Она не приходила в себя. «Скорую» вызвать! Но как? Мобильный забыт дома. Оставить ее валяться на холодном асфальте? Жалко! Лучше пойти к себе и оттуда позвонить, тем более, что вон он, дом.
Ерасимов осторожно подхватил женщину под голые колени и горб. Очень тяжело было, неловко, на он напрягся и медленно двинулся вперед.
Жил Ерасимов на третьем этаже, и он сперва долго брел по крутой лестнице, нашаривая ногами ступеньки, еле удерживая незнакомку, которая безжизненно оттягивала ему руку, и то пугался: не померла ли она с испугу, – то злился на жертву Щекиладки. Впрочем, винил больше себя: зачем навязал себе и эти хлопоты, и эту тяжесть, и эту ответственность. Не бросишь же ее теперь здесь, на полдороге, придется тащить к себе, терять время… а спать хочется – спасу нет!.. И почему-то Ерасимов подумал, что к соей «писанине» он последнее время относится так же, как к этой ноше: бросить невозможно, но понимаешь, что не стоило и связываться. Горько стало в горле…
Он почти добрел до своей двери, когда женщина вдруг упруго вздрогнула в его руках. Очнулась, слава Богу! Ерасимов хотел помочь ей встать, но его нога скользнула, он дернулся к перилам – и уронил незнакомку.
А она почему-то не упала. На миг повисла в воздухе и вдруг, подобно огромной ночной бабочке, ослепшей от света, заметалась по узкой лестничной клетке, то касаясь пола, то ушибаясь о стены и потолок, подняв облако пыли, перемешанной с известкой, болезненно вскрикивая при ударах, вновь бросаясь на стены, словно птица, которая стремится вырваться на волю, разбив преграду своим телом и сильными крыльями.
Так вот что крикнул на прощание Щекиладко. Не горбатая, нет! «Она босая и крылатая!» То, что казалось горбом и широким плащом, было крыльями!..
Оцепенение Ерасимово прервал испуганно-ночной, осторожный и в то же время полный неистового любопытства звук. Такой звук возникает, когда пытаются бесшумно преодолеть сложную заградительную систему замков и цепочек.
Даром окатило Ерасимова – взмокли волосы на шее, а потом в холод бросило. Он кинулся к своей двери, вырвал из кармана ключ, вонзил его в скважину, и, когда вбегал к себе, ударило мыслью, что лучше бы сейчас захлопнуть дверь – проснуться от непостижимого сна, – но летунья, словно почуяв спасение, ворвалась во тьму ерасимовского коридора, и дверь захлопнуло порывом ветра. Тут же раздался тяжелый и мягкий звук: сорвалась вешалка с одеждой.
Потом стало тихо. Тихо и темно. Через окно комнаты вошла луна, узкая бледная полоска, словно зыбкий мост, пролегла от окна до коридора. И слова, призрачные, как лунный луч, возникли в уме Ерасимова, будто кто-то прошептал ему на незнакомом, но понятном наречии:
В час, когда день угас,
Не одна ль струит
На соленое море блеск,
На цветистую степь
Луна сиянье?..
– Как тебя зовут?
– …
– Да ты не бойся!
– Я не страшусь тебя, о незнакомец беспечный. Ты мне обречен!
– Ничего себе! Не успела увидеть… Если я холостой, так это еще ничего не значит. Я ведь тебя и не разглядел толком. Кажется – извини, конечно, – ты женщина не моего типа. Я предпочитаю маленьких, черненьких. Опять же, крылья твои… А какого цветя у тебя глаза?
– Не знаю о том.
– Ну не злись ты!
– Нет, я не злюсь.
– Что ж глупости говоришь? Кокетка! Чтоб женщина не знала, какого цвета у нее глаза…
– Не называй меня женщиной, не нарекай словом чуждым.
– А? Пардо-он… И помыслить не мог, чтоб в наше время еще хоть кто-то… Ну, твои проблемы! Впрочем, ясно – крылья. Да, как-то трудно представить… Черт, неловко вышло. Ну извини, не дуйся. Погоди, сейчас свет включу, кофе сварим.
– Нет!!!
– Чего ты? Торопишься, что ли? Дома ждут? Не пойму вообще, как только тебя на улицу отпускают, да еще одну. Такую если неожиданно увидеть, с перепугу можно… это… Извини, конечно. А ты отсюда далеко живешь?
– О, далеко!..
– Ты прости, я, наверное, назойлив, но… ты так и родилась с… этим?
– Да. От рожденья меня носят крылья по свету.
– Вернее, ты их носишь, бедолага.
– Мы все такие – и жребий наш не тяготит нас.
– Да ты что?! Вся семья, что ли?!
– Да, мои восемь сестер от рожденья крылаты.