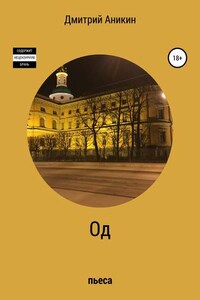ЧАСТЬ ПЕРВАЯ
1
Ни слуху и ни духу – умерла?
В каких краях-раях, где в эмпиреях
пристроилась? Как глубоко в аду
затолкана? С кем мне и весть какую
пришлешь? Слетает птица голубок –
порх на плечо. Глаз красен, торс чешуйчат,
в сажЕнь размаха кожистые крылья,
по-своему курлычет, кычет, грает –
все о тебе, как будто что-то знает
неладное. Хоть пить бросай, молись.
Я трогаю, кормлю, гоню виденье –
такое между нас теперь общенье.
2
Ты где? И раньше бывшая непрочной,
совсем распалась связь. Я двадцать лет
ищу кой-как, лениво след: где, с кем
встречалась, разговаривала? Общих
знакомых обхожу; свой интерес
запрятав, заслонив пошлейшей сплетней,
веду беседы с ними. Что таиться
и от кого. А надо же – привычка,
как будто кто из них тебе расскажет,
тебя, беглянку, действовать обяжет.
3
И ты поспешно соберешь вещички
и двинешь в путь за тридевять земель,
меняя паспорта, по три билета
с одною датой в три стороны света
заказывая, на вокзале путь
запутывая чехардой перронов,
узлами рельс, и дальше воздух редкий
полета. Ты куда? Куда ветра
погонят это чудище небесно,
уродливо, бело, тяжеловесно?
4
Когда бы так, в неосторожной гонке,
следов наоставляла, я по ним
шаг-шаг – и к цели, хвать-похвать девчонку
и, к обоюдной радости, в постель –
да так и будет все; гуляет хмель
в повинной, бесталанной голове,
я представляю страстные соитья
(насколько-то хватает мне наитья).
5
Я думаю, ты замужем. Кто он?
Каков? Приличен, строен, небогат –
во всем не так, как я. Вы всюду вместе –
в театрах и в походах, в магазинах,
на митингах: он оппозиционен,
но в проявленьях дерзости спокоен.
6
Вы копите на отдых, вы маршруты
прокладываете: тут плыть, там встать
стоянкой; по чуть-чуть от скудных средств
откладываете…
А ведь могла бы
свободно жить, кутить, пусть не со мной,
бездельником счастливым, – сколько их,
готовых капитал у ног твоих
сложить несметный было, а, подруга?
А ты… ты стала этого супруга…
7
Прекрасна, знаешь, общность интересов
в супружестве. Чуть-чуть он холодней,
чуть-чуть ты романтичней, и vice versa
в постели. И какие после дела
ведете разговоры там? Представить
боюсь, стесняюсь. Явно, что вы не
смакуете подробности процесса,
там бывшего. А может, мое мненье
о сильном целомудрии твоем
преувеличено: что хорошо для тела,
то не в ущерб и для души прекрасной –
становишься (о жуть!) румяной, страстной.
8
А я не мог, не смел расшевелить
твоих подбрюшных демонов, я робко
исследовал изгибы, губы гнал
паломничать лишь по рукам, по пальцам,
потом сам распалялся, но огонь,
сырых поев, с гнильцой, трухой, дровишек,
дрожит, дымит, неверным жаром пышет.
9
Я думаю, ты родила. Так мало
из женщин кто готов свою судьбу
жить до конца. Всех, всех вас тянет плоть
к деторожденью – разменять единый
и трудный божий дар на сколько можно
орущих, всюду пачкающих тЕлец.
Разверзнется и исхудает плоть,
дух оскудеет в этих упражненьях –
в них обретешь себе успокоенье.
10
Ты выб…..ков своих оставь ему –
пусть он содержит в холе, всякой неге
как память о тебе. Ты так и так
плохая мать, поскольку сильно много
в тебе страстей и мыслей настоящих;
да, так я постарался: приучил,
вскормил, взлелеял, с рук с убытком сбыл.
11
Аз мерзок и смешон – не прогадала
ты, отказавшись от моих услуг
телесных и других. Но связь осталась:
вполне реально, чувствую, саднит,
а где-то трет. Ты тоже ведь читаешь
не просто так пространные мои,
написанные потом, кровью письма,
натужно продираешься сквозь почерк
к лукавому их смыслу… Нас учил
В. Розанов, чтоб семенем писать, –
дрочу, чтоб эти письма обкончать.
12
Ну ладно, хватит этих экивоков
таких многозначительных, пора
в бровь, в глаз гвоздить. Я по причинам личным
пишу тебе, испуганный, живой:
нас убивают, очередь за мной.
Нас убивают, как баранов режут,
ножа о ребра слышу мерзкий скрежет.
13
Ага, забеспокоилась: твоих
любовников, как дичь какую, бьют,
матерых бьют и малых, здесь, в стране,
и заграницей. Помнишь Николая,
высокого такого? Так его
в Париже… Шел, гулял… Шанзализе…
И среди бела дня араб мятежный
зарезал. Но араб ли это был?
Ищи свищи: удар – и след простыл.
14
Я слушал о той смерти равнодушно:
ну мало ли гуляет всякой швали
приезжей по Парижу? Беспокойно
во Франции.
Потом узнал – откуда,
уже не помню, из газет, наверно, –
что Федоров застрелен. Удивился
не слишком. Чересчур банкир зажился.
15
Чужие смерти далеко мелькали,
внимание не слишком привлекали,
я в собственных печалях жил…
Потом
Аверина убили.
16
Аверина убили. Мы с ним, помнишь,
дружили. Ревновали, но, общаясь,
мы даже не пытались избегать
известных тем, но не вдавались в них
намеренно. Как будто жен своих
два друга обсуждать не обсуждают,
но, не волнуясь, к слову вспоминают:
– Как там твоя? – «Да ничего… толстеет».
– Вот и моя размером богатеет.
17
Его нашли в петле. Печальный мент,
склонившийся над вязью протокола,
в случившемся не видел преступленья:
кругом валялись шприцы, стклянки – вся
жуть обихода смертного; письма
он не оставил – что же тут искать
улик излишних, дело городить?
Кому он нужен, чтоб его убить?
18
Висит тяжолым грузом,
затянутый в петлю;
глубок след, ровен, узок;
качну, пошевелю
под шепоток шуршащий:
«Кощунство… мертвеца…» –
но ужас настоящий
не понят до конца.
19
Не просто смерть, законно
случившаяся, а
из тьмы, мглы беспардонно
подползшая змея
веревкой обернулась,
а пояском была,
с упавшего – вон – стула
на воздух подняла.
А поясок к хозяйке
вернется: принесу,
как пес какой, – давай-ка
за службу ласку всю…
20
Я почему встревожен:
по делу твоему
допрошен, строго спрошен,
чуть не сведен в тюрьму.
Сумбурной, мятой, краткой
записки нет – ищу;
все спутано, все шатко,
что было, – не решу:
он спьяну или сдуру,
судим своим судом,
или на верхотуру
был замертво крюком
приподнят – майна-вира –
висит, туда-сюда
качается? Квартира
в разоре и следах,
но как их простофиле
найти, растолковать…
Что это – мусор или..?
Я лезу под кровать.
21
Нет, пусть лучше менты самоубийством
считают происшедшее. Их скудный,
потертый разум если станет тут
искать, ловить, то кто пойдет под суд:
ты? или я? мы вместе? Справедливость
какая может быть от этих серых,
самодовольных тварей? Лучше так:
бумаги подписали, автозак
пустой уехал, мы с тобой остались
кто где. Мы на суде не повстречались.
22
А он поэтом был. В его словах
тоска такая помещалась, жуть