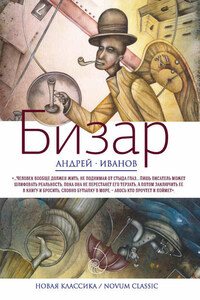Мы нашли мсье Моргенштерна в Люксембургском саду. Вытянувшись во весь рост, он лежал на скамейке, над ним покачивались грустные ветви раскидистого каштана. Закат и камнеломка выстлали за его временным аскетическим ложем пурпурный ковер. Чуть поодаль из-за листвы выглядывала одна из тех статуй, что в сумерках производят гнетущее впечатление.
Мари негромко вскрикнула и побежала к нему.
– Альфред? Альфред, проснитесь! Вам нельзя здесь лежать…
Она пыталась привести его в чувства. Взгляд старика блуждал. Я подумал, что он, должно быть, сильно пьян. Он не узнавал ее совсем. От досады Мари выругалась, по-французски. Старик что-то пробормотал и отвернулся. В полной растерянности, я стоял в стороне, чувствуя, как вокруг меня нарастает волнение. Ветви шуршали, змеилась пыль, старые сухие листья танцевали. Что-то происходит, понимал я, что-то таинственное. Я ощутил мягкий толчок в спину. Подумал, кто-то шутит, хотел оглянуться, но мгновенно догадался, что в этом нет никакого смысла. Теплая волна воздуха мурашками пробежала по спине, клубок переживаний, которые мне еще предстоит разобрать на строки и нити, кровью прилил к шее, ударил в голову и с отчетливым хрустом в позвонках сдвинул во мне давно застывшие части. С той самой минуты, когда мы нашли мсье Моргенштерна недалеко от выхода из Люксембургского сада на бульвар Сен-Мишель, я совпал с движением, которым был охвачен Париж, я ожил.
– Да помогите же, Виктор! – крикнула Мари, и я окончательно очнулся.
– Да. Иду!
Город волнуется с конца прошлого года. Я наблюдал зарождение агонии как лаборант, изучающий какой-нибудь вирус, привитый лошади. На все смотрел с улыбкой: люди бегают, в окнах лица, разгоряченные, любопытные, напуганные. Я с детства обожаю хаос, люблю бывать на вокзале, смотреть, как пассажиры торопятся на поезда. Эвакуацию в Чистополь в 1941 году я воспринял с энтузиазмом. Мама плакала, папа был белый как мел, а в моей груди гудел пламень; когда мы оказались посреди пустырей и ледяного ветра, в деревянной избушке с земляным полом недалеко от длинной-предлинной пристани, они пришли в ужас, а я был в восторге. Сколько впечатлений! Сколько свободы! Наконец-то я сбежал из пыльной Москвы. Никогда ее не любил и не хотел идти в школу. Я знал, в какую меня поведут, она проглотила многих моих знакомых, и все они ее ненавидели. Здание походило на казарму. Мы с мамой часто ходили мимо, и я, глядя на парадный вход с колоннами и лепниной, содрогался от мысли, что вскоре эти огромные двери проглотят и меня тоже. По битым ступеням, хрипло переругиваясь, скакали заматерелые мальчуганы. Я глядел на них и представлял, как они будут мне давать тычки, подзатыльники и щелбаны. Мама останавливалась и показывала мне учителя, – а этот, думал я, будет мне ставить двойки и вызывать в школу отца. От рутины спасла эвакуация. В Чистополе была совсем другая школа, там все учились понарошку…
Серый мятый плащ, черные брюки, штиблеты; одной рукой он держался за спинку скамейки, другая безжизненно свисала. Мы склонились над ним. Нет, мсье Моргенштерн не был пьян. Он что-то лепетал. Листва вмешивалась, не давала понять.
В тот день мы смотрели Alphaville в полупустом синема-клубе. Случайно забрели. Мари увидела афишу, сказала, что у нее устали ноги, фильм ей советовал посмотреть Клеман.
– У него безупречный вкус. Я читаю все, что он мне приносит. Я полностью ему доверяю. Он немного чокнутый, но это пустяки. Я вас обязательно познакомлю! Вы его полюбите, вот увидите! Идем?
У меня не было денег, но было поздно – мы вошли в клуб, мы подошли к кассе, она купила билеты. Было страшно неловко. Мари пропустила мои извинения мимо ушей, она смело шла к своему любимому месту, в самой середине.
– Я обычно сижу здесь, в каждом синема! – Села и быстро расстегнула туфельку. – С самого рождения со мной было что-то не так. Вечная путаница в документах! Я родилась во время немецкой оккупации, моя сумасшедшая мать собиралась меня назвать Марией Антуанеттой. Представляете, какая дура! Была бы я сейчас… – Расстегивала другую, посмотрела на меня и встряхнула волосами, чудесными волосами. Я не успел ничего ответить, даже улыбнуться не успел. – Дед хотел Сталиной назвать, в сороковом-то году… Отца никто не спрашивал, считалось, что у меня его не было, но потом все выяснилось… По паспорту я – Мари Анн, но так меня никто не зовет.
Дома она Марианна, для лучших друзей – Мари; во время учебы на филологическом факультете в Нантере она по вечерам работала в пансионате, где одна русская аристократка звала ее Нюрц, и каждый раз, когда Мари входила в пансионат, глаза пожилой дамы наполнялись слезами: «А вот и моя милая Нюрц! – брала Мари за руку: – Посиди со мной, дорогая Нюрц». Единственный, кто звал ее Мари Анн, был директор маленькой строительной конторы, ему позарез нужна была знающая английский стенографистка, однако за неполных два месяца, что Мари у него проработала, он ни разу не попросил ее что-нибудь перевести или стенографировать, зато вежливый негодяй распускал свои лапы, и она ушла.
– Отец и его друзья зовут меня Маришкой. Красиво?
– Очень.
Мари родилась в Аньере, на собачьем кладбище, смотрителем которого был ее дед; роды приняла бабушка…
Еще Мари говорит по-польски.
– А вы говорите по-польски?
– К сожалению, нет.
Я был очарован и не хотел этого скрывать. Пусть видит! В зале тихо щелкали перекидные часы. Во мне закипало желание. Минута за минутой… Погас свет, – «смотрите туда, не надо на меня смотреть». Я услышал, как звякнул замочек на туфельке, она их легко скинула, с мягким шуршанием падали цифры на часах. Вдруг она поставила ножки на мой ботинок…
– Позволите?
– Да.
И время остановилось.
Я приехал в Париж в октябре 1967 года; до того, как познакомился с Мари и поселился на rue d'Alesia, я не мог надышаться Парижем, он затмевал мои мысли, я чувствовал присутствие города даже во сне, меня здесь все волновало, белых пятен на карте становилось меньше и меньше, в некоторых местах образовались дыры, несколько раз меня посещало тревожное ощущение, будто мне что-то сейчас откроется, какая-то великая тайна, вокруг меня оживал воздух, он начинал струиться, над головой что-то колебалось, меня овевали струи ветра, поднимался шорох, я спешил найти тихую улочку и затаиться в ней, чтобы наедине разобраться с этим явлением, но восхитительное ощущение присутствия чего-то великого быстро меня покидало, я оставался истуканом стоять в парке или долго сидел на скамейке, во мне струилась тоска, как давно забытый мотив, я что-то писал, но ничего не складывалось, отправлялся гулять по набережным, и тогда на меня находило другое странное чувство: будто я обернут в целлулоидную пленку из фантазий и историй – всего того, что я навоображал об этом городе; оглядываясь на собор Парижской Богоматери, я на мгновение видел открытку, ту самую открытку собора, что висела у меня над кроватью в Ленинграде на Гаванской, 8А (там были и другие: кенотаф на могиле Бодлера, Триумфальная арка и, разумеется, Эйфелева башня); сделав несколько шагов, снова оглядываюсь: собор на месте, настоящий, огромный, и я себе говорю: это не фильм, не сон, не открытка.