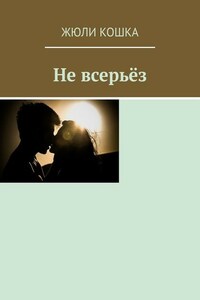Между жизнью и смертью, или к чему может привести общение с умопомрачительно красивым парнем
Ольга
Словно все происходит не со мной. Словно не моя рука берет круглую небольшую таблетку и отправляет в рот, а потом тянется за стаканом. И словно не я запиваю эту частичку смерти водой. Да, частичку смерти. Первую, но не последнюю. Что я делаю? Наверное, несложно догадаться. Пытаюсь лишить себя жизни… Страшно ли мне?.. Немного… Хотя… скорее пусто и безразлично… Я уже пережила все, что могла, выплакала столько, сколько могла, а сейчас не могу ничего… Пусто… глухо… как сон… Отправляю вторую таблетку в рот и вспоминаю его лицо… его фигуру… всего… Даже сейчас, даже после того, что было, даже просто рисуя его в своем больном свихнувшемся воображении… не могу не улыбнуться… слегка… краем припухших от долгих рыданий губ…
Темные короткие волосы, выстриженные по бокам и оставленные приподнятой широкой полоской сверху. Черные глаза, обрамленные длинными черными ресницами, узкий четко очерченный изящный нос с маленьким серебряным колечком в ноздре, острые скулы, тонкие, кривящиеся в ухмылке губы, которые… которые прикасались к моим губам… Невысокий, хотя при моем низком росте я лишь немного выше его подбородка, худощавый, но подтянутый. Если положить руку ему на грудь или плечи, то сразу можно ощутить бугорки мышц. Белоснежная рубашка, верх которой расстегнут на две пуговицы, закатанные по локоть рукава, черные в обтяг джинсы с черным широким кожаным ремнем, полностью попирающие правила школы о наличии формы, на ногах черные кроссовки с белой подошвой, а на запястье широкий кожаный браслет… Правда, крут? Особенно для меня, пятнадцатилетней девчонки с весьма сомнительной внешностью и… Хотя, сначала о внешности. О своем росте я уже упомянула, а если быть точной, то высотой я метр сорок девять. Худая, хотя некоторые и утверждают, что стройная (уверена, только из жалости), грудь практически отсутствует, волосы достаточно коротко остриженные цвета выгоревшей соломы, и что бы с ними не делала, все равно топорщатся на голове не пойми как. Рот, наверное, немного большеват, а губы бледные, но помадой пользоваться ненавижу (кажется, будто что-то лишнее на коже). Нос обычный, небольшой и ничем непримечательный (возможно, даже хорошо). А вот глаза… глаза – от мамы. Синие, васильковые, опушенные светлыми ресницами. Глаза – это то единственное, что мне в себе нравится…. И ему тоже нравились мои глаза. «Васильки во ржи…» – так однажды он сказал…
А еще… я не говорю… Слышу, понимаю, могу ответить (написав на бумаге), но не говорю. Раньше разговаривала. Но раньше многое было иначе…
Многое… А самое главное, была мама… Я помню ее теплые нежные руки. Когда было трудно, мама обнимала меня и говорила: «Ничего, солнышко, все образуется. Вот увидишь, все будет хорошо». Только хорошо не стало, а лишь еще хуже. Та сволочь, у которой мы жили последние два года, убил ее, толкнув так, что она упала и… Я долго, почти ничего не могла вспомнить из того, что произошло тогда. Только то, как я бежала по талому, холодному снегу, отчаянно хлюпающему в резиновых домашних шлепках, бежала неизвестно куда, только бы убежать, а потом тускло-зеленые стены, врачей в белых халатах. Мне сказали, что меня нашли какие-то люди лежащей без сознания в снегу и вызвали «скорую» С тех пор я не разговариваю… После больницы меня отправили в детский дом, потому что близких родственников у нас с мамой не было. И год я провела там. Тяжелый год. Ничем хорошим не могу вспомнить это место. Разве что наша воспитательница, Алиса Васильевна с ее сочувственным отношением ко мне смогла маленьким лучиком хоть каплю осветить этот ад, наполненный презрением и издевательством окружающих меня детей. Возможно, если бы я могла говорить, у меня бы получилось как-то ужиться с ними, а так… я стала изгоем, уродом, которого можно изощренно доставать… А потом, спустя чуть больше года, меня вдруг взяла к себе семейная пара. Мария Владимировна и Павел Александрович оказались людьми хорошими. Им обоим далеко за сорок, своих детей никогда не было. И вот они решили приютить детдомовца. И выбор пал на меня. Не знаю, что их так подкупило. Возможно, то, что я не говорю, и моя печальная биография, а, может быть, и хорошая, а местами даже отличная успеваемость в учебе. Я всегда очень прилично училась, не сползла и в детдоме. А они оба преподаватели: Мария Владимировна – учитель биологии в школе, а Павел Александрович преподает химию в институте. Должно быть, они увидели во мне неплохой потенциал, поэтому и взяли к себе. Но, как бы там ни было, мне повезло. Однако когда подошел учебный год, в школу меня не отдали, решив обучать на дому. И я радовалась тому, что мне никто не докучает по поводу моей немоты. Но спокойная жизнь длилась недолго. Спустя два месяца, когда только-только начался ноябрь, ознаменовавшись в школе каникулами, а у меня перерывом в домашних занятиях, Мария Владимировна как-то после совместного семейного ужина заявила:
– Оленька, мне кажется, сидя дома, ты совсем зачахнешь. У тебя сейчас возраст такой, когда общаться надо, а ты все одна и одна. Наверное, мы не правы были, что тебя дома оставили. Давай попробуем в школу ходить. Там, где я работаю, очень неплохой девятый класс в параллели есть. Ребята хорошие, коллектив дружный. Определим тебя туда. Уверена, тебе непременно понравится!
И со второй четверти учебного года я отправилась в школу, в девятый «Б» класс. Была ли я против? Не то что бы… Я ведь и раньше, до того, как все произошло, ходила в обычную школу. И мне даже нравилось. Но сейчас было очень тревожно…
…В первый день классу меня представила сама Мария Владимировна. Когда она объявила, что я не могу говорить, все уставились на меня так, будто я была диковинным экспонатом в кунсткамере. Я вытерпела несколько долгих мгновений моей презентации классу и, опустив глаза, прошла и села за последнюю парту, которая, на мое счастье, оказалась полностью свободной. Однако в течение всего урока ученики оборачивались и разглядывали меня. Некоторые как бы мельком, а некоторые пристально и въедливо. Это раздражало, но я терпела. Деваться-то было все равно некуда. А на перемене меня обступил чуть ли ни весь класс. И я вновь ощутила себя чудом природы, только на этот раз еще сильнее. Ребята пытались выяснить, кто я такая, можно ли со мной общаться и как это делать. Когда увидели, что ответы я могу писать на бумаге, меня окончательно завалили вопросами, далеко не все из которых отличались тактичностью. Я и раньше-то не была особо общительной, а после детдома, вообще, любой контакт со сверстниками настораживал. И поэтому я ответила лишь на несколько, на мой взгляд, существенных и более или менее корректных вопросов. А ученики, поняв, что всеобъемлющей исповеди от меня не добьются, начали отставать. И на последней перемене моего первого учебного дня я уже сидела в гордом одиночестве, уткнувшись взглядом в книгу и делая вид, что усердно ее штудирую. Еще несколько дней моих походов в школу увенчались пониманием, что желающих со мной дружить нет. Иногда кто-нибудь подсаживался за мою парту, но все это было чисто из любопытства, и скорее раздражало, чем обнадеживало. Да, честно говоря, и мне, привыкшей в последнее время быть одной, на более тесный контакт идти не слишком-то и хотелось. А чуть позже, недели через полторы, когда в классе выяснили, что по успеваемости я обгоняю многих, некоторые на меня стали поглядывать с недовольством. А еще через несколько дней я поняла, что обрела врага. Это произошло, когда мое сочинение по литературе зачитывали перед всем классом, как пример для подражания, а впереди сидящий Виталик Брянцев обернулся и заявил, что я спихнула с пьедестала Варю Иванкову, сочинения которой всегда считались лучшими, и тут же встретилась с испепеляющим взглядом этой самой Вари. И, подводя итоги двух недель своего обучения в школе, я сделала печальный вывод о том, что друзей, да и даже просто школьных приятелей у меня нет, зато есть враг в лице Вари, начавшей после злополучного урока литературы отпускать в мой адрес недобрые взгляды, а порой и колкости. А также уяснила, что обзавелась не слишком-то маленькой кучкой недовольных, по всей видимости, считающих меня выскочкой и зазнайкой, и небольшой группой «списывальщиков», которые регулярно не выполняли домашку, а потом клянчили ее у меня (в основном это были пацаны). Еще я осознала, что в школе мне неуютно и даже тревожно и что сидеть дома и заниматься самостоятельно для меня гораздо спокойнее и комфортнее. Я решила потерпеть еще одну неделю, чтобы собраться с духом, и в следующие же выходные объявить своим приемным родителям, что хочу вернуться к обучению на дому. С этими мыслями я шла в школу в морозный ноябрьский понедельник, с этими же мыслями садилась за последнюю, только мою парту и с этими же мыслями подняла глаза, когда Брянцев влетел в дверь класса и истошно завопил: