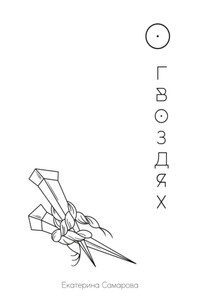Стихи поражают интенсивностью душевной энергии, некоторой даже лапидарностью душевного движения… Они ошеломляют буквальностью чувств, голой своей метафизичностью, отсутствием слезы (гитары)… [В них есть] любовь любви, любовь к любви – самая большая новация в русском стихе, в этом веке запечатлённая.
Стихи Владимира Гандельсмана отмечены той свободой речи, которая оплачивается отчаянием, но способствует выживанию. Эта свобода стирает, но одновременно обновляет разницу между одой и элегией. Поэт блистательно владеет техникой стиха – тем, что сам называет «пробежками аллитераций» и «вольностью грамматики»; формальная игра у него приобретает глубоко содержательные измерения, словотворчество оказывается не банально футуристским, а скорее метафизическим. Гандельсман – один из немногих, кто вправе ощущать себя дома в поэзии, причём не только русской и не только современной (великолепны его вариации на темы Катулла и Баратынского). Последнее и, может быть, самое важное, что хотелось бы сказать: он обладает редкостным чувством не то чтобы единства, а неслиянности и нераздельности с миром, природой, другим человеком.
Это – сверхплотная и сверхстрастная поэзия. В теле гандельсмановского стиха аллитерационные строки чистейшего звучания и смысла буквально вспыхивают, как вспыхивают на случайном луче прожилки кварца, стиснутые горной породой. Страсть в его стихах угрюма, строга, сдержанна. Ничего ненужного. Смысл порождается как раз этой чудовищной плотностью. Что же до формальной стороны вопроса, то перед нами удивительный (и счастливый) случай новаторства, выросшего из зерна русской поэтической традиции.
Уникальный способ проникновения в сердцевину мира, присущий именно Гандельсману, – это изобилие, даже теснота точных реалий, и вдруг чуть ли не в соседней строфе воспарение из-под этой груды в мир почти бестелесной абстракции – телом остаётся только слово <…> Его стихи часто, даже почти неизменно, вызывают у меня стандартную реакцию – напряжённое восхищение.
Невозможно в здравом уме вынести во всей полноте убеждение: «Я смертен». И тем не менее поэт каждым стихом решает эту задачу. В. Г. доводит ощущение смертности всякого мгновения и события, преломлённого в звенящей чистоте детского взгляда, до предела, за которым, как ни странно, обнаруживается бессмертие… В этих стихах смысл вырастает из звука и, слившись с ним, в него уходит, как дождь в ждущую землю. Всё его техническое совершенство никогда не самоцель, всё работает на основную тему, на раскрытие жалкой и прекрасной бесполезности существования… Только такого читателя, для которого чтение – обряд, равносильный крещению, из которого он может выйти обновлённый сотворчеством, – только такого читателя ждёт эта книга.
Автобиография, если она кем-то востребована, предполагает значительность: я родился и кем-то стал… – но если её начать единственно точными словами: «Я родился за несколько десятков лет до своей смерти…», то понятно, почему нет никакой возможности кем-то быть. Не остаётся времени: ни на хотение нарядиться в инженера, например, или в поэта, ни на пребывание в наряженном виде: кто-то.
Настоящая биография – это история не пребываний, но отсутствий, главное из которых – безусловно истинное отсутствие (БИО) – впереди. БИО обсуждению не поддаётся, но из прикосновений к нему и сопутствующих состояний складывается биография.
Эти состояния – вспышки, которые освещают всё, что рядом: остальную жизнь. Они – обрывы сердца, огромные обвалы неумения, безыcкусного и безысходного сиюминутного горя, но в будущем воспоминании, возможно, счастливого горя. «Время – это движение горя».
Мы находимся в обратном натяжении к небытию. И чем преданней, тем чище. Чистота пребывания – это результат вычитания центростремительного вектора из центробежного, вектора к небытию из вектора к жизни, и чем меньше разность, тем точнее результат. В обычном случае результатом взаимодействия двух сил – вовнутрь и вовне – является криволинейное движение.
12 ноября 1948 года – 1964 год. Ленинград. Родители: Аркадий Мануилович Гандельсман и Рива Давыдовна Гайцхоки. Старшие сёстры: Инна и Роза. Детский сад – школа.
Болезнь в младенчестве – первое пробуждение этого обратного натяжения. Тебя не отпускают в жизнь. Но тем самым и побуждают к ней. Ты лежишь и, глядя в потолок, видишь точку пустоты. Вот головокружительный опыт. Может ли такое быть: точка пустоты? Может, и это очень большая тоска. Похоже на вертящуюся пластинку: серое вращение плоскости с точкой в центре. Беспричинный страх, как всё беспричинное, свидетельство подлинное. Без примеси психологии и всего разумного. И эту пластинку заест: одна и та же музыкальная фраза будет возвращаться всю жизнь.
Другое состояние – любовь. Ты как средоточие любви. Покоящийся словно бы в колыбели родительского взгляда. Забавно говоря: в люльках глаз. И любовь к родителям. Вернее сказать, любовь, «предметом» которой стали родители. Как первые, попавшиеся на пути от БИО-1 (до-бытие) к БИО-2 (после-бытие)… Все эти долгие объяснения оттого, что речь, скорее всего, идёт не о состоянии людей, а о свойстве пространства жизни, ими затепленного и хранимого.
Мать поёт колыбельную «Спи, моя радость, усни, в доме погасли огни…», или сидит за швейной машинкой «Зингер» и слюнявит нитку, или входит отец со сбритой полосой на обмыленной щеке – очень необыкновенно. Всё, что предъявляется, предъявляется когда-то впервые, и родители создают любовную повторяемость событий, тем самым невольно оберегая нас от непрерывно и непривычно яркой новости. Но яркость прорывается, поэтому ребёнок так часто плачет. Режет глаза. Из этого непреднамеренного горя вырастает неотступное ожидание родителей, их прихода домой с работы. И страх, что не придут. Что умрут. Страх и жалость.
Как возникает понимание БИО? Когда? Из этих ожиданий? БИО как невозвращение никогда домой?
В первом классе умирает мальчик: он сидел на первой парте, фамилия Симаков, – потом ты слышишь, что умер от желтухи. Это значит, что он никогда в класс не войдёт и на своё место не сядет, а ты не увидишь его стриженый затылок и уши поперечным торчком. Просто исчезновение. Фокус переселения Симакова в твою память, которая через пятьдесят лет его легко воскрешает, потому что никогда не забывала.
Другой, тоже главный, вопрос: когда ребёнок видит себя в зеркале, впервые понимая, что это он? Взгляд на себя со стороны и возникновение образа себя. С этой точки могло бы начинаться изгнание из детского рая, но не помню и не встречал никого, кто бы помнил.