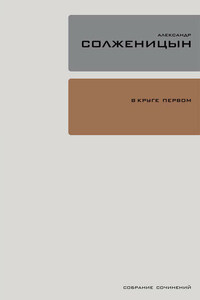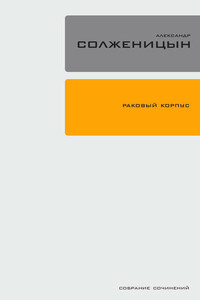Вся правда
Андрей Немзер[1]
Это случилось 17 ноября 1962 года. К подписчикам пришла очередная книжка «Нового мира». Одиннадцатый номер журнала открывала подборка лирики Эдуардаса Межелайтиса. За ней следовала повесть «Один день Ивана Денисовича». Имя автора абсолютному большинству читателей было неизвестно, а потому ничего обещать не могло. Ясность вносила заметка «Вместо предисловия» за подписью главного редактора самого свободного из выходящих в стране журналов поэта А. Т. Твардовского: «Жизненный материал, положенный в основу повести А. Солженицына, необычен в советской литературе. Он несет в себе отзвук тех болезненных явлений в нашем развитии, связанных с периодом развенчанного и отвергнутого партией культа личности, которые по времени, хотя и отстоят от нас не так уж далеко, представляются нам далеким прошлым <…> Читатель не найдет в повести А. Солженицына всеобъемлющего изображения того исторического периода, который, в частности, отмечен горькой памятью тридцать седьмого года. Содержание “Одного дня”, естественно, ограничено и временем, и местом действия, и кругозором главного героя повести. Но один день из жизни лагерного заключенного Ивана Денисовича Шухова под пером А. Солженицына, впервые выступающего в литературе, вырастает в картину, наделенную необычайной живостью и верностью правде человеческих характеров. Многих людей, обрисованных здесь в трагическом качестве “зэков”, читатель может представить себе и в иной обстановке – на фронте или на стройках послевоенных лет. Это те же люди, волею обстоятельств поставленные в особые, крайние условия жестоких физических и моральных испытаний»[2].
В заметке Твардовского ощутимы и тактические извороты советского редактора (кандидата в члены ЦК единственной в стране всевластной партии), и напряженные внутренние противоречия истинного поэта (автора «Василия Тёркина»). Но важны нам сейчас не они, а тот простой смысл, который Твардовский хотел донести до любого человека, открывающего книжку «Нового мира» – напечатана та самая «повесть о лагерях», вести о которой клубились несколько последних месяцев не только в литературных кругах столицы. Дело – за вами, читайте.
Немногим ранее (19 сентября) Л. К. Чуковская спросила Анну Ахматову, «читала ли она “Один день з/к”[3] и что о нем думает?
– Думаю?.. Эту повесть о-бя-зан про-чи-тать и выучить наизусть – каждый гражданин изо всех двухсот миллионов граждан Советского Союза.
Она выговорила свою резолюцию медленно, внятно, чуть ли не по складам, словно объявляла приговор»[4].
Увы, «Один день…» прочитали далеко не все граждане СССР. Но масштаб события поздней осенью 1962 года ощутили весьма многие. Вот как много лет спустя, в совсем иную эпоху (1998), вспоминал о том в личном письме Солженицыну С. С. Аверинцев (в 1962-м – недавний выпускник филфака МГУ; позднее – один из крупнейших русских гуманитариев ХХ века): «С незабвенным выходом в свет того одиннадцатого новомирского номера жизнь наших смолоду приунывших поколений впервые получила тонус: проснись, гляди-ка, история еще не кончилась! Чего стоило идти по Москве домой из библиотеки, видя у каждого газетного киоска соотечественников, спрашивающих всё один и тот же разошедшийся журнал! Никогда не забуду одного диковинно, по правде говоря, выглядевшего человека, который не умел выговорить название “Новый мир” и спрашивал у киоскёрши: “Ну, это, где вся правда-то написана!” И она понимала, про что он; это надо было видеть, и видеть тогдашними глазами. Тут уж не история словесности – история России»[5].
Косноязычный «человек из толпы» словно бы расслышал Ахматову, великого поэта, легитимно наследующего Пушкину, Достоевскому и Толстому. Двести миллионов обязаны прочесть «Один день…» и выучить его наизусть (то есть, прожив с Иваном Денисовичем от подъема до отбоя, сделать его день неотъемлемой частью собственного сознания), ибо в рассказе этом «вся правда». Вся – вопреки корыстным и бессовестным указаниям советских критиков на то, что «годы, которые мы называем периодом культа личности, были весьма сложными и противоречивыми», а Иван Денисович не может «претендовать на роль народного типа нашей эпохи»[6]. Вся – вопреки тактически обусловленным замечаниям защитников рассказа (начиная с Твардовского), напоминающих о том, что нельзя объять необъятное[7]. Вся – ибо правда не знает количественных критериев.
Мы понимаем, что все события, произошедшие за годы большевистского владычества в России, на шестидесяти шести журнальных страницах описать невозможно. Мы видим воочию, что состоящий из семи частей «Архипелаг ГУЛАГ» обычно укладывается в три объемных тома, а четыре Узла «Красного Колеса» – в десять. Но мы знаем, что задуманные прежде создания «Одного дня…» «опыт художественного исследования» коммунистической тирании и духовного ей сопротивления и роман о революции (ставший «повествованьем в отмеренных сроках») смогли осуществиться, обрести свою художественную, религиозно-этическую, историософскую полноту вследствие того, что их автором был написан рассказ об одном дне одного зэка[8].
В «очерках литературной жизни» Солженицын рассказывает о том, как редактор отдела прозы «Нового мира» А. С. Берзер представила Твардовскому сверхрискованную рукопись неведомого автора: «“лагерь глазами мужика, очень народная вещь” <…> в шести словах нельзя было попасть точнее в сердце Твардовского!» Чуть ниже Солженицын пишет: «…верная догадка-предчувствие у меня в том и была: к этому мужику Ивану Денисовичу не могут остаться равнодушны верхний мужик Александр Твадовский и верховой мужик Никита Хрущёв. Так и сбылось: даже не поэзия и даже не политика решили судьбу моего рассказа, а вот эта его доконная мужицкая суть, столько у нас осмеянная, потоптанная и охаянная с Великого Перелома, да и поранее»[9].
В интервью для Би-би-си к двадцатилетию рассказа (1982) Солженицын подчеркивал, что для появления «Одного дня…» в советской печати «нужно было стечение невероятных обстоятельств и исключительных личностей. Совершенно ясно: если бы не было Твардовского как главного редактора – нет, повесть эта не была бы напечатана <…> И если бы не было Хрущёва в тот момент – тоже не была бы напечатана. Больше: если бы Хрущёв именно в этот момент не атаковал бы Сталина ещё один раз – тоже бы не была напечатана. Напечатание моей повести в Советском Союзе, в 62-м году, подобно явлению против физических законов, как если б, например, предметы стали подниматься от земли кверху или холодные камни стали бы сами нагреваться, накаляться до огня <…> Да, и Твардовский, и Хрущёв, и момент – все должны были собраться вместе»