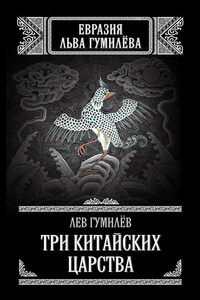Был тот скверный отрезок ночи, уже под утро, когда цифры на часах еще позволяют поспать, но свинцовые мысли о предстоящем дне моментально атакуют залитый торможением мозг и сон исчезает. И эти два часа до подъема кажутся испытанием. И не встанешь, потому что, быстро произведя вычисление, сознание выдаст ничтожно малую цифру – количество часов, проведенных во сне и, наложив его на неприятные ожидания будущего дня, создаст формулу: «Не выспался, столько сделать надо! Ничего не получится, будешь разбитым и неуверенным». Прогноз готов, обработан и уже влияет на сознание. А ведь еще два часа поспал бы и совсем иначе себя ощущал. И начинается борьба с собой и отчего-то вдруг быстро бегущими минутами. В запасе их осталось уже только сто. Надо заснуть, надо заснуть…60 минут.… От раздражения, охватившей тревоги и невозможности расслабиться становится еще противнее. Просыпается желудок, выражая недовольство чувством голода и пустоты… Наконец, не встревоженные окончательно очаги торможения берут свое и мозг сдается. Но вскоре звенит будильник и явь ударяет в голову невыносимой разбитостью и сонливостью.
Рой открывает глаза. Утренняя темнота заправляет всеми мучительными стереотипами из детства, выстраивая их один за одним в болезненную последовательность. Он рывком поднимает голову с подушки и садится на кровати. Мысли, движения и ощущения сменяют друг друга автоматически. Пределом всех мечтаний становится эта кровать, которую приходится покинуть. Все бы отдал за отмашку, за позволение ничего не делать, никуда не идти, а остаться здесь. Мысленно произнесенное жесткое и тяжелое «надо» булыжником падает в желудок, вываливаясь из него в реальность. Ноги не ищут тапочек. К чему все эти отпрыски уюта, если в главном ощущении они ничего не изменят.
Резкий свет в ванной слепит глаза. Мышцы пускаются в дрожь, чтобы хоть как-то отработать щедро выделенный организмом адреналин. Все существо разом проваливается и застревает в детской беспомощности и беззащитности. Разыгравшаяся без объективных причин тревога не находит выхода и лупит по телу и голове, оглушая и обдавая жаром. Слышно, как накатывает и пульсирует в ушах горячая волна крови вперемешку с глухим и быстрым стуком сердца. Есть, конечно же, не хочется. Но, дабы запустить парасимпатику и сделать перестановку сил в спектакле инстинкта, Рой запихивает в себя кусок сыра (завтрак должен быть белковым) и небольшой кусок булки (углеводы, быстродостижимый драйв для мозга)…
Выход из дома, еще теплого, родного, ленного места сопровождается дополнительной порцией дрожи. Голова уходит в плечи, взгляд скользит по черной земле. Рано. Темно. Холодно. Те внешние триггеры, которые запускают цепочку внутренних ощущений: одиноко и страшно. И белок сыра где-то канул, и углеводы, и «сосет под ложечкой», и назад бы. Но день все равно надо начинать. Почему начинать было так сложно? Ведь после этого всегда наступал раж действия и деятельности, когда ты уже в пути, когда уже что-то преодолел, когда есть куда обернуться и когда вперед смотришь не со страхом, а с любопытством и дерзостью, когда, добавленная к слову «адреналин», приставка «нор» полностью меняет суть дела… Но до этой точки надо было заставить себя дойти. Заставить через тысячи «не хочу», заставить силой. И каждый раз не было ясно, где именно эта точка. Она, подлая, могла появиться и к концу дня, когда уже не надо. Преодоление, мучительное ломание себя с непременным вопросом: почему всегда так. Почему не как у всех?
Сегодня точка была достигнута довольно быстро, но с большими энергозатратами. Зато реальность обрела свои истинные очертания, на душе прояснилось. Радовала предстоящая встреча с Идой. Вечером она должна была приехать и остаться на неделю.
Ида – сестра Роя по отцу, единокровная, как говорят. Только такая формулировка всегда Роя озадачивала. Настолько разными казались их «крови», что отец в этом свете представлялся, по крайней мере, желанным объектом для исследования генетиками.
Ида была тем вихрем, который, покружась на месте, проталкивал жизнь Роя вперед. Она была первым человеком и последней надеждой. Если не понимала она, не понял бы никто. Высокая, худая, бойкая, с короткими светло-русыми волосами, она была импульсивна и выдержанна одновременно.
Ее голос разбивал тишину и будоражил пространство. Звонкий, но плавный, с уловимым, но очень приятным дефектом: свистящие и шипящие согласные звучали в ее исполнении как-то объемно и обволакивающе. Хотелось подстроиться под тембр, который задавала речь Иды. Эта мелодика несла собой какой-то завораживающий порядок. Часто Рой просто сидел и слушал, не озадачиваясь темой Идиного монолога. Ему нужны были только звуки и ритм.
***
Мать Роя развелась с его отцом, когда мальчику было 4 года. Это было ее решение, о котором она заставляла себя не жалеть. У отца через какое-то время появилась другая семья, родилась Ида. Но с Роем он общаться не перестал. Часто брал к себе. Иногда на несколько дней. Вместе с Идой они ходили на детские праздники, в кино, магазины. Рой привязался к сестре быстро и окончательно. Она покоряла его своим взглядом, своим голоском, теплыми ручками. У Роя появилось существо, о котором хотелось думать, с кем хотелось мечтать, кого можно было защищать. Мать Роя их отношениям не препятствовала, но сама ничего не хотела слышать о той семье. Время шло, дети выросли, отучились. Нашли работу. Отец внезапно умер. Вслед за ним умерла мать Иды.
Вместе с сестрой они кое-как справились с бедой. Каждый по-своему. Обоим пришлось сменить работу. Рой теперь занимался системами для домов, где живут старики: сигнальными кнопками в квартирах, управлением основными приборами с пульта на инвалидном кресле, сообщением данных тонометров на пульт медсестры…
Это оборудование надо было совершенствовать, обновлять, налаживать и обслуживать. Рой часто навещал тех, кто пользовался результатами его трудов. Особенно часто, и уже не по работе, он заходил к одинокому старичку. Тот жил в специализированном доме не так далеко. Жил совсем один. Родных не было. Почти всех друзей уже не стало. Рой называл его дядя Грей и всегда приносил пачку миндального печенья. Оно быстро становилось мягким в чашке чая с молоком и придавало их беседам неповторимый вкус.
Грей прожил долгую, тяжелую жизнь, под конец которой болезнь усадила его в инвалидное кресло. Но в нем он жил так, словно буквально на минуту присел на стул, чтобы передохнуть. Кресло не унижало его достоинства. Оно было лишь техникой, которая облегчала быт, техникой, которая иногда барахлила, и которую можно было поругать. Больше он не ругал ничего. Никогда не душил Роя старческими беседами о морали и «своем времени». Он жил просто, как многие, так, как предлагали обстоятельства. Он перестал судить людей и не давал советов из своих уст. Только каждый раз, когда Рой пил чай за небольшим круглым столом посередине комнаты, он замечал на столе раскрытую книгу с какой-нибудь подчеркнутой строкой. Так недокучливо и осторожно Грей пытался что-то ему донести. Книгу словно только что читали и отложили. Фразы каждый раз были удивительно цепкими, книги всегда разными. Рой, конечно, иногда не предупреждал о своем приходе и Грей не мог угадать, в какой именно день нужно класть книгу. Видимо, сразу после ухода парня старик находил нужное произведение и нужную страницу, и так все и лежало, пока Рой снова не позвонит в дверь.