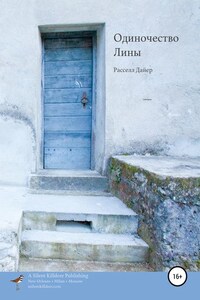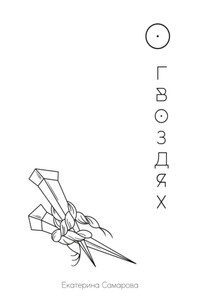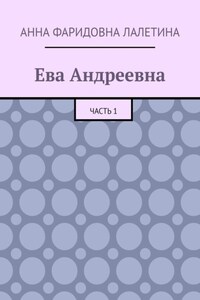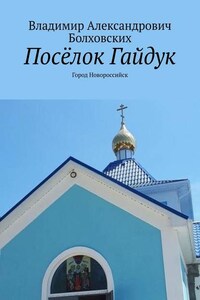Она медленно просыпается. В комнате пахнет хлоркой. Этого она больше всего и не переносит в больнице: убивающий запах, белый довлеющий кафель и свет, а еще эхо голосов людей, сдержанно перебрасывающихся словами, шум оборудования, расположенного где-то в конце коридора. Все эти звуки ударяются в продезинфицированные стены и потолки, которым абсолютно безразличны ко всему: звукам, свету, любви. От этих стен они отскакивают и больно бьет по лицу.
Она открывает глаза, но свет ослепляет, и она их снова закрывает. Головная боль, ранее не заметная, проносится через виски. На губах чувствуется какой-то металлический привкус.
Она всхлипывает, пытаясь сглотнуть, но в следующую же минуту съеживается от резкой боли, словно ящерица,. Складки простыней больно кольнули. Она сразу вспомнила свои простыни из египетского шелка, дорогие, по восемьсот долларов. Мать купила их на распродаже, за полцены, а потом подарила ей в купленную квартиру.
Мысли о шелковых простынях прерывает острая боль, возникшая внизу живота и моментально поднявшаяся вверх. Широко открыв глаза, она резко вздыхает с открытым ртом, а выдыхает резко, урывками, как при родах. Она вдруг вспоминает, как сюда попала, и что они с ней сделали.
Она поворачивает голову на бок, но мысли не отступают. От этого на глаза проступают слезы, но боль становится сильнее и концентрируется в одном месте, словно нанося точечный удар. Она всхлипывает, и готовится жить с этой болью – с физической, которая скоро пройдет, и с душевной, которая будет длиться гораздо дольше.
Дверь палаты почему-то открыта. По коридору проходят две медсестры. Очевидно, они чем-то не довольны – то ли тем, что смена слишком длинная, то ли тем, что с какой-то из них плохо обходится один из докторов. Она не может разобрать – мысли все еще путаются, и в голове туман.
Она оглядывает палату. Не все лампы включены, и от этого свет приглушен, или не такой яркий, как казался сначала. Она замечает другую женщину, спящую на соседней кровати. Рядом с женщиной, в кресле около окна, дремлет мужчина. Его тело скосилось во сне, а голова плавно покачивается. На вид ему лет двадцать пять – двадцать семь. Взгляд вновь переводится на спящую женщину. Бледная, не накрашенная, та выглядит, как невинная девочка, хотя они с мужчиной явно ровесники. У спящих нет колец на пальцах, но по их виду все равно понятно, что они супружеская пара. При этой мысли она снова глубоко вздыхает, на лице появляется гримаса, от чего резко болит низ живота, и она закрывает глаза. Мысль о том, как все в ее теле и ощущениях взаимосвязано, одновременно и раздражает, и удивляет ее. Она открывает глаза, пытаясь осознать, что ей пришлось пережить, и сколько всего связано с этой болью внизу живота.
Снова поворенвушивь посмотреть на спящую соседку по палате, она замечает цветы, розовые шарики, мягкие игрушки на тумбочках и подоконнике, еще и с подписанными вручную открытками. Она оглядывает пустые тумбочки возле своей кровати – ни цветов, ни открыток с пожеланиями скорейшего выздоровления. У этой соседки уже точно есть ребенок, крошечная девочка, и ей по праву все эти празднества, но ведь если женщина потеряла ребенка, ей можно принести цветы и открытку с сожалениями? Но нет – по обе стороны кровати стоят пустые тумбочки, как равнодушные стражи ее боли. Нет ни малейшего знака, что она нужна кому-то. У нее нет друзей.
При мысли об этом, она слегка поднимает левый уголок губы, при этом напрягается щека, и выходит какое-то подобие улыбки. Она кивает головой, как бы соглашаясь, что то, что с ней произошло, вполне стоило ожидать, и даже в некоторой степени забавно, хотя ей совсем не до смеха. На нее никто не обращает внимания, но у нее не пропадает ощущение, что весь мир рассматривает ее под микроскопом, и ей приходится держать ответ. Она произносит вполголоса: «Никому до меня нет дела». Затем, спокойно вздохнув, добавляет: «Ну и пусть. Мне тоже никто не нужен».
Женщина на соседней кровати пошевельнулась и, мягко улыбаясь, стала медленно просыпаться. Она взглянула на спящего, предположительно, мужа. В улыбке соседки теперь чувствовалась любовь, и она потянулась к нему, погладив по руке. Он, вздрогнув, проснулся, несколько смутившись, что заснул «на посту».
– Привет, милый, – сказала женщина мягким голосом.
– Привет, – ответил он машинально, глаза его при этом задвигались, пытаясь понять происходящее. – Хочешь чего-нибудь?
Она покачала головой.
– Воды хочешь?
Он встал и, не дожидаясь ответа, начал наливать ей в чашку воду из пластикового кувшина горчичного цвета.
– Нет, спасибо, – сказала она, все еще улыбаясь.
Он дал ей чашку. Женщина отпила немного, а затем, поблагодарив, вернула ему чашку. Он сказал «на здоровье».
Лина смотрела, как ее соседка по палате пьет из чашки, и ей тоже захотелось пить. Еще хотелось, чтобы кто-нибудь налил ей в чашку воды. Она и сама могла – на ее тумбочке тоже стоял пластиковый кувшин, но решила прежде ополоснуть рот. На губах все еще чувствовался металлический привкус. Пить она передумала, лишь закрыла глаза и сама не поняла, как заснула.
Между ней и этой женщиной задернули занавеску, и они не видели друг друга. Но в палате стало светлее: включили все лампы, да и дневной свет стал ярче. Было утро. Она слышала, как люди живо о чем-то болтали. Мужчины и женщины, все разного возраста. Среди них была маленькая девочка, лет шести. Лина пыталась различить голоса в этом сонме разговоров, людей разного пола и возраста. Кажется, там слышались голоса гордых бабушек и дедушек, тетей и дядей, и вроде бы друзей, но их было слишком много в этой слишком маленькой палате.
Она слышала странные короткие звуки, выражающие недовольство. Очевидно, это пищал младенец. Как только младенец издавал какой-нибудь чих, или писк, все сразу принимались одобрительно комментировать.
Лина закатила глаза: ей не нравилось это идолопоклонство.
Тут она вспомнила про маленькую девочку в этой толпе посетителей. Малышка прислонялась к занавеске, как будто это стена. Когда девочка отклонялась, то чуть не падала, но все равно продолжала отклоняться. Кажется, ей просто хотелось посмотреть, кто там, за занавеской.
Лина непроизвольно улыбнулась девочке, но улыбка сразу перешла в усмешку. Девочка улыбнулась в ответ, сказала: «Привет!» – дружески и невинно.
Лина поймала себя на мысли, что ей совсем не нравится это вторжение. Это удивило ее, поскольку детей она любила, но, видно, из-за боли в ней взыграли эти низменные чувства. Все же эта девчонка пробудила в ней что-то, что она не могла объяснить, что-то, к чему не хотелось быть причастной. Она желала прогнать эту девчонку, сказать, чтобы та не лезла не в свое дело и вообще не вмешивалась в ее жизнь. Она знала, что это будет ужасно, и что это будет не она, если скажет это ребенку. Неожиданно из-за занавески выглянула какая-то женщина и крикнула девочке отойти от занавески.