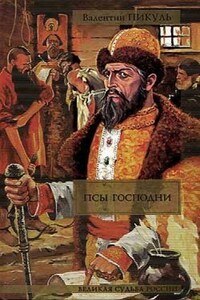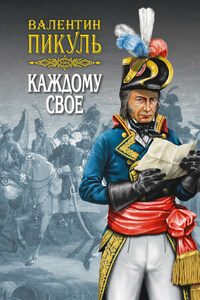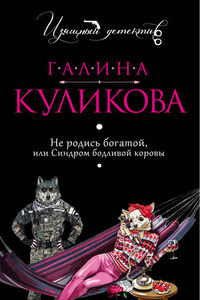Время от времени оповещают нас о катастрофах в шахтах от взрывов рудничного газа, и я невольно вспоминаю Теодора Гротгуса. В летние сезоны пригородные электрички Риги переполнены приезжими, жаждущими исцеления на бальнеологических курортах, и я снова думаю о Гротгусе. Я слежу за падающей звездой – опять возникает Гротгус. Наконец, на улицах я вижу перекрашенных блондинок, пожелавших стать огненными брюнетками, и, черт побери, в моей памяти опять возрождается загадочный барон Теодор Гротгус…
Что мы знаем, читатель, об этом Мефистофеле? Справедливо, когда судьбою физика занимаются физики, о химиках пишут химики. Они со знанием дела выявляют суть научных процессов. Но их суждения о человеке остаются односторонними, ибо им зачастую чужды (а порою даже мешают) чисто человеческие черты ученого. В таких случаях литераторы смотрят шире: они ставят на первый план самого человека, а физические формулы или химические реторты служат лишь приятным декором к написанию портрета ученого. Об этом в свое время хорошо сказал еще Николай Лесков: “Литератор не ученый, но он более чем ученый. Он не так фундаментально образован, как последний, но он всестороннее его…”
Ладно! Я не собираюсь наживать себе врагов в мире науки и техники, а, чтобы избежать нареканий ученых, приведу здесь цитату из авторитетного академического справочника, в котором о бароне Гротгусе сказано, что он “изложил первой закон фотохимии, гласящий, что только поглощенный свет может вызвать хим. превращение (закон Гротгуса). Открыл явление ускоренного окисления веществ свободным кислородом под действием света и тем самым вплотную подошел к известной в настоящее время теории фотохимии, активации кислорода. Установил влияние температуры на поглощение и излучение света…”
Из подобных слов, не имея технического образования, не догадаться, что за списком научных открытий Гротгуса затаилось, как хищный зверь в засаде, трагическое одиночество человека, который хотел спасти самого себя.
Именно спасти, ибо он не мог больше жить!
Зимою 1785 года доктора Моруса, куратора Лейпцигского университета, навестил странный человек, назвавшийся поэтом:
– Меня зовут Христиан Вейсе. Я зашел к вам, чтобы с вашего дозволения был выписан студенческий матрикул.
– На чье имя? – величаво осведомился куратор.
– На имя барона Христиана-Иоганна-Дитриха Гротгуса, семья которого из Митавы, столицы Курляндского герцогства.
– Прекрасно! – согласился Морус, имевший давнюю слабость к титулам, и уже придвинул к себе лист бумаги. – Но я должен знать о возрасте нашего нового студента.
– Об этом лучше не спрашивайте, – захохотал поэт. – Наш высокочтимый студент родился только вчера. Я, как его крестный отец, разумно решил, что для младенца нет лучшего подарка на свете, чем зачисление в студенты с пеленок.
– Это невозможно! – отбросил перо куратор.
– А почему же? – удивился писатель. – Курляндия, как и Карелия, издревле поставляла Европе волхвов, звездочетов и алхимиков. Откуда вы что знаете? Может, отказывая младенцу в матрикуле, вы лишаете мир нового волшебника Нострадамуса.
Христиан Вейсе все-таки уговорил Моруса, и куратор сдался на уговоры, узнав, что бароны Гротгусы занимают не последнее место среди курляндской знати. Весьма довольный, поэт навестил гостиницу, в которой супруги Гротгусы остановились проездом на родину, и торжественно возложил удостоверение студента поверх орущего в колыбели младенца:
– Пусть он сразу набирается высокого разума.
– Наш сын будет камергером, – отвечала гордая мать.
– Скорее уж… музыкантом, – скромно заметил отец…
Здесь я вынужден сделать паузу, дабы сообщить малую толику о том, кто такие Гротгусы (“гротен гусен” – большой дом). В давние времена один из “большого дома” Гротгусов был послом Ливонского ордена при царе Иване Грозном; уже тогда Гротгусы владели землями под городом Бауском – именно там, где сейчас красуется дворец-музей Рундале (Руентале), место паломничества многих туристов. Бароны, судя по всему, были большими непоседами, они слонялись по Европе как неприкаянные, служили то в прусской, то в русской армиях – как им хотелось.
Отец нашего героя Эвальд славился в Германии как пианист и композитор, но, пораженный глухотой, рано умер, оставив годовалого сына на руках молодой вдовы, происходившей тоже из Гротгусов, а значит, родственной мужу. При этом я начинаю думать: не кроется ли в родстве отца и матери та генетическая тайна природы, которая от рождения заложила в их ребенка ту невыносимую боль, от которой Гротгус всю жизнь не мог избавиться, словно наказуемый за грехи родителей?
Овдовев, баронесса Гротгус увезла болезненного ребенка в свое родовое имение Геддуц (ныне Гедучяй), заброшенное в тех местах, где земли литовские смыкались с курляндскими. Здесь мальчик был окружен книгами отцовской библиотеки, коллекциями минералов, играл на рояле, доставшемся его отцу от Эммануила Баха; желая рисовать, сам пробовал составлять краски. Он мечтал быть художником или музыкантом, но… Не от этих ли красок и зародилась в нем первая любовь к химическим опытам? Мальчику исполнилось десять лет, когда Курляндия вошла в состав великой Российской империи, и таким образом Гротгус с детства ощутил себя русским подданным.
Тщеславная мать иногда вспоминала о матрикуле:
– Но я думаю, сын мой, что в науку пусть идут дети аптекарей и пивоваров, а тебе лучше подумать о здоровье…
Непонятные боли накатывались на мальчика приступами, всегда неожиданными, но мучительными. Мать возила сына лечиться в Митаву, где у Гротгуса завелся приятель. Это был аптекарский ученик Генрих Биддер, по роду своего ремесла знакомый с химией. В те времена аптекари готовили даже ликеры и марципаны, отчего в аптеках всегда толпились люди, алчущие выпить и обсудить прочитанное в газетах. Мальчики тоже лакомились сладостями, они играли с шариками ртути, потом ставили с ртутью опыты. Биддер был сирота, он завидовал барону:
– У тебя матрикул уже в кармане, а мне, видит Бог, всегда оставаться в аптеке на побегушках.
– Не горюй, Генрих, – отвечал Гротгус. – Я вернусь из Лейпцига ученым, и ты поставишь мне хороший клистир…
Конец ознакомительного фрагмента. Полный текст доступен на www.litres.ru