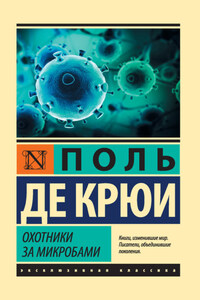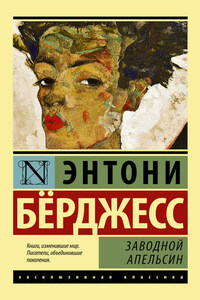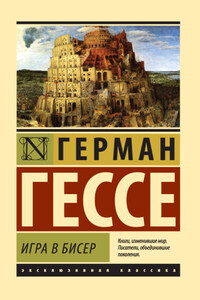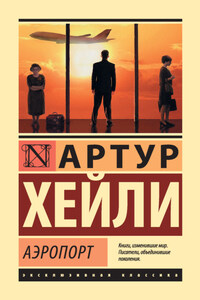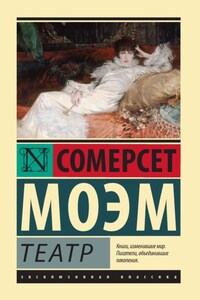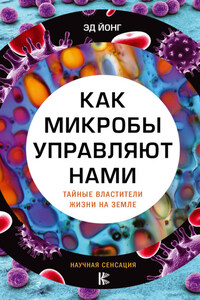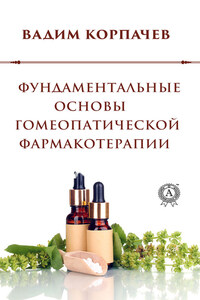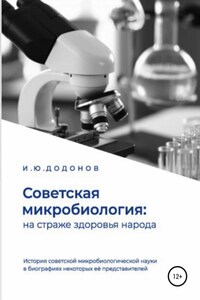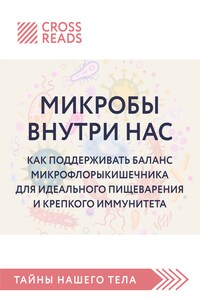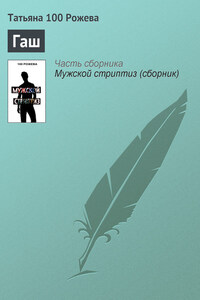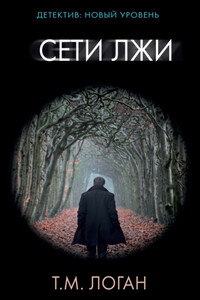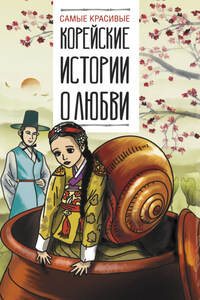Paul de Kruif
MICROBE HUNTERS
Печатается с разрешения Houghton Mifflin Harcourt Publishing Company.
© Paul de Kruif, 1926
© renewed by Paul de Kruif, 1954
© Houghton Mifflin Harcourt Publishing Company, 1996
© Перевод. О. Колесников, 2017
© Издание на русском языке AST Publishers, 2017
Исключительные права на публикацию книги на русском языке принадлежат издательству AST Publishers.
Любое использование материала данной книги, полностью или частично, без разрешения правообладателя запрещается.
***
Не часто бывает, чтобы книга, прочитанная в юности, производила такое же сильное впечатление, когда перечитываешь ее много лет спустя. Обычно происходит как раз противоположное – закрыв книгу в разочаровании от несбывшихся ожиданий, мы оказываемся опечалены или озадачены. Нам хочется спросить: «Как это могло мне когда-то нравиться?» или «Что я увидел такого тогда, чего не вижу сейчас?», и мы в недоумении пытаемся найти ответ. Как правило, в таких случаях тщеславие находит объяснение (оно почти всегда способно сделать это): мы стали более искушенными, более мудрыми и благодаря накопленному опыту более взыскательными в отношении чтения. Иногда бывает также, хотя и редко, что самоуничижительное смирение побуждает нас задаться вопросом: не стали ли мы с годами хуже? Другими словами, не происходит ли наша нынешняя неприязнь или безразличие из-за приобретения чрезмерной критичности нашего восприятия до цинично придирчивого – признак, увы и ах, увядания юношеской восторженности.
Так что вовсе не мелкой похвалой в адрес «Охотников за микробами» Поля де Крюи будут слова, что спустя почти столетие после того, как эта книга увидела свет (в 1926 году), она все еще вызывает восхищение и желание перечитать ее и у старых, и у новых читателей – у тех, кто сохранил относительно смутные воспоминания о ней со времен юности, среди которых был и я, и тех, для кого эти яркие образы и портреты – нечто новое. Эта книга своим особым очарованием продолжает сегодня затрагивать наши сердца и умы. Сохранение такого воздействия необычно для любой книги, а особенно для написанной в жанре научно-популярной литературы, имеющей дело с фактами и историческими личностями, описание которых уже было воспроизведено бессчетное число раз. Подобная притягательность кажется достойной более внимательного рассмотрения.
Искренность сопереживания автора описываемым событиям заметна на каждой странице. Де Крюи действительно ликует в моменты совершения открытий и опечален при неудачах людей, которых описывает. «Сейчас трудно представить себе воззрения людей того времени… Состояние простодушного голландца оказалось восторженным, близким к обмороку». Какой-либо менее восторженный и искренний энтузиазм оказался бы не в состоянии воздать должное той необычной истории, с которой начинается эта книга, – открытию микромира. Просто сказать, что открытие микроскопа увеличило область доступного для изучения посредством зрения, было бы крайне скучным. Оно сделало намного больше: это преобразовало мир, в котором мы жили, во «множественность миров», каждый из которых бездонный и крайне сложный, целая вселенная, изобилующая собственными красотами и собственными ужасами. Мы привыкли рассматривать животный мир в его разновидностях от огромного слона до крошечного клеща; а с этого момента мир оказался населенным крохотными животными, по сравнению с которыми клещ был слоном. Самая ровная поверхность изобилует для этих крохотных существ величественными утесами и огромными пропастями, а то, что нам кажется жестким, для них зачастую представляется хрупким или вязким. Голландский натуралист семнадцатого века Ян Сваммердам напыщенно восхвалял: «О Господь, сотворяющий чудеса! Насколько великолепно созданное Тобою!.. Как замечательно устроено все то, чем Ты так щедро снабдил все Твои существа!»[1] Но очень скоро восторженные интонации были умерены, вместе с осознанием, что микроскопические существа, оставаясь незаметными и даже вне подозрений, могут быть причиной мучений человечества, страданий, боли и болезней, не имеющих пока названий. И потому рапсодия должна была закончиться на мрачной ноте: несмотря на их изумительное устройство, всех живых существ непременно ждет гибель и разложение; «и, при всем их совершенстве, они едва заслуживают право считаться тенями Божественной Природы. А все потому, что по каким-то высшим соображениям… вся Природа заполонена и пропитана своего рода проказой…»[2]. Потребовались люди особой породы, чтобы создать для нас защиту от невидимой, проникающей повсюду и смертельной опасности. Истории жизни этих людей, описание их упорства и целеустремленности, их триумфов и поражений составляют красочный гобелен повествования «Охотников за микробами».
Де Крюи излагает все максимально просто, что делает книгу понятной широкой публике, в том числе и юным читателям. Но такое простое, понятное изложение вовсе не означает принижение литературной или научной составляющей. Здесь нет никаких уступок неверному пониманию того, что такое «подростковая» литература. Гораздо легче было бы построить рассказ на основе просто хронологического описания событий: их достаточно много, чтобы выткать неплохие узоры. Но наш летописец не чурается того, чтобы излагать идеи, описывать размышления и знакомить с различными мнениями. Идеи, даже самые абстрактные, он подает ненавязчиво и без театральных эффектов. Иногда мы даже не замечаем их, потому что знакомимся с ними в простом, почти домашнем одеянии: «Настоящий ученый, подлинный естествоиспытатель, подобен писателю, художнику или музыканту. Он отчасти художник, отчасти холодный исследователь. Спалланцани сам себе рассказывал истории…» Вот так по-простому.
Со времен Аристотеля реки чернил были истрачены на обсуждения, составляют ли наука и творчество гармонию или противоречат друг другу; креативная творческая способность художника ухудшается или улучшается от рационально-критического научного подхода. Китс жаловался, что наука превращает радугу в нечто заурядное и делает унылой обыденностью то, что вызывало благоговение или трепет. Олдос Хаксли тосковал по утопическому будущему, в котором ученый и художник будут идти, взявшись за руки, «в непрестанно расширяющуюся область неведомого». Философы, такие как Карл Поппер, утверждали, что научное мышление строится исключительно рассудительно, без каких-либо признаков воображения. Представители строгой науки, такие как британский нобелевский лауреат, иммунолог Питер Медавар (работы которого по литературным достоинствам сравнимы с произведениями лучших английских прозаиков), возражали, утверждая, что научное понимание всегда начинается с попыток вообразить, прыжком перескочить в мыслях к тому, что может быть верным, – к «некому допущению, которое всегда, и обязательно, лежит на какой-то (иногда значительной) удаленности от всего, во что у нас есть логические или фактические основания верить»