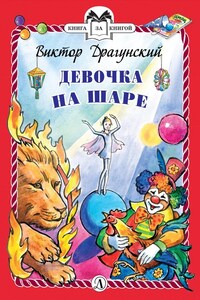Очень темная была ночь, когда я, нагруженный разными свертками, усталый как черт и голодный, подошел к своему переулку. Здесь, у аптеки, я должен был подождать ее. На улице уже было тихо и глухо. Москва отдыхала после тревожного дня перед тревожной ночью. Все мы, москвичи, знали, что через несколько минут обязательно прозвучит сигнал воздушной тревоги, фриц опять начнет рваться к нашему городу и мы уведем женщин, детей и стариков в бомбоубежище, а сами побежим на свои места – в лестничные клетки, в подъезды и на крыши, будем слушать надсадный вой чужого мотора и с надеждой смотреть на кинжально-перекрещивающиеся лезвия прожекторов. Нетерпеливым сердцем будем подгонять зенитчиков и будем радоваться, когда услышим первые удары наших батарей, – они такие сильные, молодые и стучат полновесно, как весенний первый гром, когда, резвяся и играя, – как там дальше? Ах да, – грохочет в небе голубом! Знал я также, что молодой командир батареи у зала Чайковского будет командовать: «Огонь!», и это всем нам, дежурящим на окрестных крышах, будет как маслом по сердцу.
Да, скоро объявят воздушную тревогу, а пока Москва немножко отдыхала, и я стоял на перекрестке в полной темноте, и, видно, никогда не забыть мне этого часа в последнюю августовскую ночь в Москве, когда я ждал на углу возле аптеки эту женщину и знал, что завтра я уйду из моего врезанного в сердце города, и от нее уйду, и буду делать что-то большее, чем дежурство на крышах и тушение зажигалок.
А время все шло, и от нетерпения я уже насчитал несколько раз по пятисот, а Валя все не приходила. Я вошел в парадное, где стояла будка автомата, опустил гривенник и, отсчитывая в синей темноте буквы и цифры на телефонном диске, набрал ее номер. Телефон басисто прогудел, и Валя сняла трубку. Это сразу ударило меня по сердцу. Я слышал ее голос, а ведь она не должна была быть дома. Это поразило меня. Она, значит, дома, а я стою на ветру и жду ее, а она вовсе и не собирается проводить меня, провести со мной вечер, проститься…
Я сказал:
– Это я, что ж ты не идешь?
И я услышал, как она ответила мгновенно, как будто знала, что я позвоню, и как будто давно уже отрепетировала свой ответ.
– Понимаешь, Зойка, – сказала она, – ничего не выйдет, мне не вырваться сегодня. Семейные дела заели. Да и поздно уже!
Какая, к черту, Зойка? Я почувствовал, что у меня упало сердце. Я сказал:
– Я не Зойка. Это Митя говорит.
Она засмеялась.
– Нет, Зойчик, не могу. Не проси.
Я сказал:
– Я завтра уезжаю. Ведь ты же плакала. Что ты несешь? Мы не простимся?
Она помолчала, потом сказала тихо и очень внятно:
– Неудобно. Надеюсь, ты напишешь. Будь здорова.
Я услышал комариный писк разъединения и механически повесил трубку.
Вышел я из будки, так резко толкнув дверь, что ушиб кого-то, стоящего там в темноте.
– Ох, – сказал кто-то, – чуть-чуть не убил.
В парадном стояла девушка. Синий свет не давал возможности разглядеть ее лицо.
Я сказал:
– Извините, – и хотел было уйти.
Но она сказала:
– Я вас давно жду. Одолжите мне гривенник, пожалуйста, или разменяйте двадцать копеек.
Я протянул ей монету. У меня их всегда полны карманы. Она взяла гривенник, нашарив в темноте мою руку, и я ощутил прикосновение горячих и сухих пальцев. Она сказала:
– Если можно, не уходите. Я мигом.
Я остался в парадном. Я не мог как следует осознать все случившееся, и на душе у меня было непоправимо скверно. Ведь, черт побери, честно говоря, я был в эти дни, в эти ужасные первые дни войны, как какой-нибудь сумасшедший: я был счастлив. То есть я был потрясен войной, я ненавидел фрица, я знал, что уйду на войну во что бы то ни стало, но вот в глубине сердца у меня, несмотря на такое ужасное горе, как война, светилось счастье. Это было потому, что я верил в Валину любовь и сам любил ее всем сердцем. А теперь, после разговора по телефону, особенно после ее правдивого голоса, который так здорово врал и обзывал меня Зойкой, после этого я почувствовал, что ничего хорошего в моей жизни не осталось и что я теперь как солдат, у которого отняли его личное оружие и все могут стрелять в него, как в бессмысленный столб. Я совершенно растерялся от этого разговора и не знал, что делать. Из автомата вышла девушка.
– Спасибо, что подождали. Вы меня знаете?
– Нет.
– Да мы же рядом живем, вы в конце переулка, а я не доходя, наискосок. Я недавно в Москву переехала, а раньше жила в Туле. А теперь мама там, а я у тети… А вас я часто встречаю в переулке, и одна девочка мне про вас все рассказала.
Ну и ну, все ей рассказала. Вот это да. А что рассказывать-то?
– Так что я все про вас знаю, Митя Королев. Дайте руку, а то я боюсь ходить по этому переулку.
Она взяла меня за руку, и мы вышли. Ночь стала еще темней. Вокруг слышались сдержанные голоса прохожих, люди говорили тихо, как будто боялись, что их услышит какой-нибудь фриц, там, наверху.
Мы постояли немного с незнакомой девушкой на краю тротуара и пошли домой. Не хотелось мне идти домой, прямо скажем, противно было, особенно потому, что я весь был обвешан покупками, как какой-нибудь пижон. А еще противней было, что покупочки эти оказались ни к чему, ни для кого. Все эти пакеты и свертки хрустели новой бумагой, как окаянные, словно смеялись надо мной. Девушка вдруг сказала:
– Значит, никто не придет проводить вас и проститься?
Я сказал:
– Это не ваше дело.
Она вздохнула.
– Всегда, когда стоишь у автомата, слышишь чужой разговор. Конечно, это нехорошо.
Мы сделали еще несколько шагов, и девушка вдруг остановилась.
– Это, наверно, горько и обидно – звонить куда-то и узнавать, что тебя не придут проводить и проститься?
– Да.
Она как будто рассердилась, потому что спросила сухо:
– Может, мне отстать от вас?
– Да. Отстаньте, пожалуйста.
Она крепче сжала мою руку.
– Это не дело прогонять меня, раз я боюсь ходить этим переулком. Ладно, я буду молчать и не буду мешать вам переживать.
Я с удовольствием дал бы ей затрещину, но меня мучило сейчас другое, и я промолчал.
Мы проходили мимо большого серого дома, когда она сказала:
– Вот я здесь живу.
Я сказал:
– Ну, пока.
Но она не отпустила мою руку.
– Я провожу вас, мне не хочется домой.
Мы вошли в наш двор, где нас тихонько окликнули дежурные, и прошли в самый дальний конец. Моя дверь была налево от садика, я жил теперь один на нашем первом этаже. Я пошарил в почтовом ящике и взял ключ.
Я сказал:
– Ну вот. Пока.
Но она сказала:
– Можно, я к вам зайду? Давайте уж я провожу вас, раз никого больше нет.
Я никак не реагировал на ее слова. Меня мучило совсем другое, и то, что говорила эта девчонка, не имело никакого значения. Я отпер дверь и впустил ее к себе. В темноте я проверил, опущены ли шторы затемнения, и зажег свет. Потом я свалил всю эту сотню свертков на стол и вынул из бокового кармана плоскую бутылочку старки – я купил ее в коктейль-холле, мне нравилось, что она плоская, как у какого-нибудь отчаянного героя старого кинофильма.