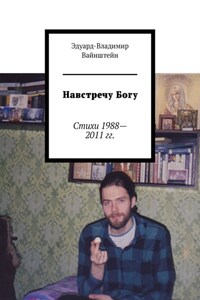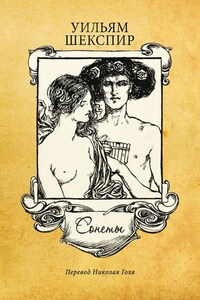(1970–1972)
* * *
я тихо прилягу
разбросив веселые руки
легче тени веселье
легче тени что под глазами так часто
проносит путь нашей осени
словно память под утро
касается нежной груди воспоминаний
будто память
а тебе-то зачем
желтый ангел тебя не коснется
невесомые ноги тебя унесут
легче солнечной пыли
по ветвям заскользи
босоногая с сумой королева
вне предела танцующий пепел
слившихся тел
ну а я же тихо прилягу
раскинув по свету веселые руки.
Ночью ты мне приснилась. Уж очень красивой ты была! В широком то ли костюме, то ли платье, на котором разворачивался очень крупный орнамент. Платье становилось все шире и шире. Ты стояла у стены. Таких стен много в Ленинграде. Глухие высокие стены. А во дворе еще не сошел снег. Потом все стало еще просторней, снега еще больше, и мы очутились во дворе Никольского собора… Я себя не видел, а только слышал, как ты ко мне обращалась. На колокольне качались колокола, а я пытался поймать звук. Я видел блестящие от рук веревки, они невольно дергались в ритме.
– В солнечные ветреные дни они не звонят, – сказала ты.
– Сейчас нет ветра, – сказал я.
– Нет. Посмотри! – Твое платье наполнилось мягким красным цветом. – Такое бывает только в ветреные дни, когда очень сильный ветер. Жаль, что ты не можешь испытать этого!
– Останови свое платье! – закричал я и увидел себя. Я был раздет, но не чувствовал холода. Я был бос, но снег не трогал моих ног. Я стоял у дерева, но дерево не жгло мою спину. Ветра не было.
По двору шла ты. Платья на тебе не было. Я схватился за дерево от боли. Только во снах бывает такая тоскливая боль! Кора на ощупь оказалась совершенно мягкой, и оскомина села на мои пальцы. Я знал, что лишил тебя платья, что не мог сделать иначе, но я не мог смотреть на твои ступни в снегу.
И начали вдруг бить в колокола. Стаи звона слетались к нам. Я не жалел, что оставил тебя без платья! Да и снега не было. Не было Никольского собора, не было дерева, хранившего меня. Но появилось твое лицо. Оно было так прекрасно. Звона становилось больше.
Я проснулся. Мама вытирала бокалы. Это был счастливый сон. Суббота.
Всего лишь пасмурный день
1
деревья гнутся под ветром
поднимается пыль
раскачиваются оцепенело
первый день
ветреный день
день созерцания
движением мерным охвачены рощи
поля стволы кукурузы
бредут коровы
лунные головы влекут рогатые тени
а надо всем – шум налитый зноем
воздухом
светом гнущихся сосен
гравий поскрипывает под ногами
ночь прервана на полуслове
полусвет листьев на лицах
первый день
день ветреный
день созерцания.
2
сад
дождь накрапывает
скользкие листья
мы шли по тропинкам
бормоча заклинания:
«дуб, ясень, лиственница, тис, рябина»
мы шли непринужденно беседуя о том
что есть нечто выше нашего понимания
мы говорили о человеке
потом молча шли будто вытекли из себя –
брели прислушиваясь к шагам
и размышляли.
3
пусто в саду
невдалеке женщина укачивала
в коляске ребенка
да служитель собирал листья с отпечатками ног
и листья отражавшие сложность строения глаза
кто еще забредет сюда в этот день
или в другой какой день?
кто бродит среди нас
и произносит имена наши как заклинание
кому рассказать что мои сны каждый год умирают
и небо дарит их иллюзорным бессмертием?
и что пьем из одного и того же источника
что вкус воды одинаков для нас.
4
…но это был всего лишь пасмурный день
деревья были деревьями а мы сами собой
мы откуда-то возвращались и совершенно
случайно наткнулись на сад
где женщина укачивала в коляске ребенка
не придавая значения голосу
да служитель собирал к сожжению листья –
безбрежная река белого дыма
струилась между деревьями.
Когда злоба оставит нас
Зине
Ящерица дрожит на искристой стене –
Ее спина в изумрудных крапинках.
Волна накрывает песок.
Смотри,
смотри!
Якоря торчат то тут то там.
И летят с пронзительным криком
чайки к неистовой синеве.
Ветра песня
заплетена туго в пряди песка,
и она стала понятна деревьям,
а мы бредем побережьем,
слушая, как шуршит песок,
стекая по плечам и бедрам.
Бредем, понятные песку, раковинам
и воде, которая то подступает,
то вновь отступает от берега.
Постскриптум
кому сжигать мосты, кому их строить
кому лежать ничком и остывать
и чувствовать, как лед багровый
стекает дымными потоками к плечам
кому плясать закинув голову в веселье
подобно пестроногим циркачам
кому ползти зажав в руке холодной
ручьи небес и забытья бесценный дар
тот задает вопрос тот глух не внемлет
а этот красотою погребен
другой в смирительной рубашке дремлет
у третьего неизмеримостью весь мозг сожжен
так по утрам невесть чего мы ожидая
в великой немоте всем счет ведем.
Триумфальных врат стада оцепенели…
Месть дам червей легла прозрачной тенью.
Мы легионы ждем, но в мареве полудня
дрожат лишь очертания раба.
* * *
придет день или ангел
в трепет дождя
раскрыты окна и кровли
придет ночь или ангел
пронзительный некогда взгляд угас
под набрякшими полями шляпы
будто на пажити два одиноких серпа –
раскрыты крылья косноязычия
правая часть лица отдана смерти
«поэзия, поэзия, слов…» –
невнятно произнесет исчезая
следуя вдоль ряда имен
«станется, было, не будет…» –
промолвит эхо в ответ.
* * *
Н. Заболоцкому
Что мы можем сказать о лице человека
по полупомеркшей голубой фотографии?
Знаем мы, что он был поэтом,
что страдал болезнями сердца и
конец жизни провел в деревне,
где вокруг ходили куры и гуси,
телята бродили и пели в пыли воробьи.
Известно, что он, растолстевший,
не любил далеких прогулок, а сидел
на скамье под липой и чертил
палочкой по песку.
Что он чертил?
Таинственные знаки, вызывающие вдохновение?