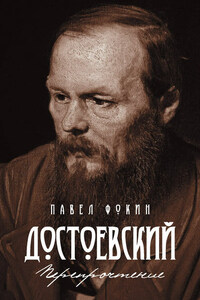Заканчивая эту, во многом запутанную, неясную для меня и других историю, выбирая из множества известных мне концов наиболее скучный, способный своей привычной и необременительной скудостью разрешить, а правильнее – завершить вереницу полуслучайных, полудействительных событий, кажущихся мне теперь столь одряхлевшими, что от дыхания, от вздоха рассыплются в прах – я задумался над необыкновенно простым вопросом: а как это было?
Нет, не будем, нет-нет, не будем говорить о памяти. Сказано о ней всё. Согласитесь, что слишком плохой она свидетель, чересчур правдивый. Да осенит нас ложь, не ведающая в существовании своём ни конца, ни края.
О, какой соблазн, не скупясь на слова и время, вести себя по фальшивым тропам предварения, как бы достоверностью облекая то, что потом камнем ляжет. Камень и останется камнем, и этим он мил мне.
Какое искушение – ровным, ничего не значащим тоном излагать историю от третьего лица! – а меня вот нет, не было никогда – второго, четвёртого, десятого лица, от капли, упавшей на раскрытую ладонь, от ракушки, впившейся в кору воды, – не я всё это, не обо мне речь, с кем-то, кто-то, у кого-то…
В самом деле, когда я начал думать о том, что впоследствии само по себе возникло, помимо моей воли, явилось, словно было задолго до меня, до моих намерений? Действительно, когда это я, не обладая ни особым рвением, ни даром, двинулся в столь сомнительное путешествие как повествование, только предощущая при этом дальнейшее, о котором уже не знаю как и думать: случайно ли оно и нелепо или, напротив, закономерно и прекрасно, и которое само, по окончании некоторого времени, становилось в ряд условий неустанного движения на месте. Кто не мечтал о побеге!
Почему на месте?
Мы уходили и возвращались, и когда возвращались, камня на камне не оставалось от прежних времён. Это ли не свидетельство движения!
Нет, видно, всё зависит от остроты зрения. Иным необходимы месяцы, другим хватает длительности… ну, скажем, крикни – легко, не натужно вскрикни, как будто от изумления – так этого времени хватит, чтобы въяве увидеть пустоши на земле благодатных садов (густое чёрное вино запустения вспенится, древнейший хмель гнили чудными соцветиями покроет прошлое), а есть и третьи, у которых это зрение абсолютно, для которых и плод от рождения несёт в себе зародыш смерти, и зачарованно взирают они на её безмолвно расправленные в заповедных глубинах крыла… Ветряные мельницы, осень, путники, ощупывающие радостными голубоватыми ступнями выступающий мел, золотой огонь воды… Они и в лике ангельском обречены тень видеть. Неугодны всевышнему они. Точно две неких линии, не сливаясь, движутся – для последних. Тогда и время не река, не поток, но паутиной разрастается, оплетая ветви космоса… (кристалл).
Вот какой вопрос в наготе и простоте явился мне: почему именно тогда мне пришло на ум рассказывать всю эту вздорную историю, не обещавшую ничего, кроме смятения и усталости, той неодолимой усталости, что переполняет человека после любого бесполезного дела. Почему я предпринял попытку, заранее обречённую на неудачу? Я не собирался писать историю чьей-то жизни.
После слова «неудача» меня, бесспорно, и выслушивать никто не захочет. Мало ли таких попыток! Мало ли историй поведано нам, в которых разобраться стоит немалого труда, а когда разберёшься что к чему, плюнешь с досады – до того ничтожно всё. Не откровения ли ждём от рассказчика? Не просветления ли ожидаем, когда изматывает он нас прихотливым нагромождением вымысла и привычного? Не учениками ли покорно восседаем перед тем, кто повествует?
Учеником у самого себя сидеть тридцать, сто лет. Можно больше, можно меньше.
Учитель, ответь мне – у этих ли окон я был? Так ли они были раскрыты? И стоял ли тогда гранёный стакан на подоконнике, наклонённый слегка набок, – считывающий неровности подоконника – и в нём пузырьки налипли по граням внутри и вода чуть скошена, так как стакан стоит на бугристом от бесчисленных слоёв краски подоконнике – полупрозрачный, сумрачный, темнее воздуха. Стекло раньше чует наступление ночи.
Был ли я тогда, три-четыре года тому назад, влюблён? Не помню. Но, случилось тогда нечто из ряда вон выходящее. Вероятно, потому впервые я и ощутил способность сопоставлять одно с другим. Однако при чём здесь любовь? Непонятно…
Это всегда приходит неожиданно. И вдруг всё связано между собой, находится в равновесии, точно пласт дёрна срезан и перевёрнут. Нескончаемое плетение. Да?
Нет. И не будем обращаться к памяти. Я уверился в ложности самых достоверных воспоминаний. Что вчера было – того сегодня нет. Было ли оно вчера?
Кажется, в ту пору, когда писалась эта история (которую теперь мне бы хотелось подсунуть кому-нибудь и поглядеть, что из этого выйдет), у меня накопилось довольно много разных клочков бумаги, листков из записной книжки со всевозможными замечаниями, имевшими единственную цель, – вывести мельчайший факт в настоящее, лишить его прошлого, угасания: так угасает медная монета, брошенная в воду. Точно по ступеням, по изломам света, в пластах прозрачнейших влаги ускользает монета в темень, выпущенная из ладони в самую прозрачную темень, какую можно себе вообразить. Я говорю о замечаниях на клочках бумаги, потому что они показались мне тем дерновым пластом, когда связанность впервые потрясает однообразием, монотонностью.
Говорю разве о памяти? Ну, нет, конечно, нет! О равновесии…
И окно то же. И дождь накрапывает, может быть, как тогда, до моего возвращения. Не угадать разницу между дождями. Но почему же говорю – что было вчера, того сегодня нет? Какое это имеет значение!
И стакан на подоконнике тот же, наполненный водой и скошенный в сторону. Тогда я, очевидно, думал и о стакане, и о дожде, и об окне думал, и об остальном. Думал и смотрел точно так же: окно, дождь – сама вечность, если не обращать внимания на строгие стены скоротечных осенних пейзажей, лица, мелькающие в его нитях; если не думать о предстоящем вечере, слепом вечере-поводыре, если не думать о временах года, которые никак не хотят следовать друг за другом в положенном им порядке, но сопрягаются самым немыслимым способом – осень идёт за осенью (что несёт она нам?), за которой начинается ещё одна, и потом вдруг и надолго, навсегда вспыхивает лето.
Навсегда и надолго, обрываемое иногда не то снегом, не то сном, проносящим у изголовья смех, не то пеплом от бледного огня, и рыбы кричат, маясь в иссыхающих корнях облаков, бросаются на берег, а над головой облачко раскалённого жара, подобно бесцветной ртути, тяжко рвётся к лазури.