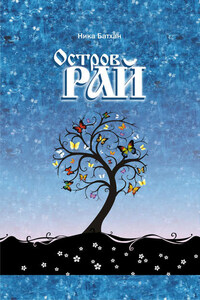Соловьи разорялись, будто май заплатил им за песни. Ночь выдалась жаркой – первая по-летнему жаркая ночь в году. От стены пахло терпкой смолой, кое-где проступали янтарные капельки. Дом срубили на скорую руку. Бог даст, лет через двадцать встанут каменные хоромы, а пока надлежит быть трудолюбивыми пчелками, обустраивать будущее гнездо. Будущий город. Княжество. Бог шутник, почему бы ему, князю Борису, младшему сыну Романа Черниговского, не поставить свой стол да не сесть на нем прочно? Пускай старшие братья грызутся за золотой кусок, ему покамест хватит простого черного хлеба. Только хлебушек уберечь надо – на каждый ломоть по десять ртов жадных. Болгарин проскачет – дай. Половец прибежит – дай. Гонцы от Киевского князя придут – дай, а ведь что ни год в Киеве – новый князь. То Ростиславич, то Святославич, а мира нет, и покоя нет. И поди тут сбереги детинец-город, дай на ноги-валы подняться, чтобы злой тур копытами по полям не прошелся. С единой белки семь шкур не снимешь… А, заррраза. Князь скинул с лавки босые ноги, потянулся с хрустом, нашарил на столе крынку, глотнул кваса и сморщился – теплый. Сон ушел. А за окном колыхалось марево сумерек, темнели голые стволы яблонь, где-то лениво перебрехивались собаки – ночь отступала в берлогу, но серая ее морда еще лежала на холмах Ладыжина.
Неторопливые слова молитвы проговорились спешно. Стоило дреме стечь вслед за последним «аминь», как пришла тревога. Князь Борис был здоровым двадцатипятилетним мужчиной, бессонница посещала его очень редко – и никогда зря. По смуглой коже пошли мурашки, князь передернул плечами, вспоминая, как осьмилетним отроком перебудил дядьку, слуг, братьев, с плачем требуя утекать поскорее – сон видел. По счастью, дядька Рагнар был опытный и выставил княжичей во двор, кого словом, а кого и тяжелой дланью. А тут и соколы налетели – Брячиславичи, Романовы племянники. Борис помнил, как страшно кричал отец, занося меч, как визжали осатанелые кони, как пламя перекинулось на застреху, как бесцельно, жалобно звонил серебряный колокол и вдруг восхитительной музыкой откликнулся лязг и топот поспешающей старшей дружины… Брячиславичей быстро уняли – кого в монастырь, кому отрубили лишнее. Только матушку было уже не вернуть – с перепугу она начала рожать прежде времени да так и не разродилась. И отец надорвался – он прожил еще без малого десять лет, сделал двух меньших братьев с черноокой кипчачкой[1], но прежним Ярым Романом так и не стал…
Льняная рубаха пристала к телу, влажному от ночного пота. Искупаться сходить что ли? С крутого берега да к Бугу-батюшке в сини волны. Борис хорошо плавал и любил воду, в отрочестве он мечтал даже ходить по морям на своей ладье. Матушка рассказывала, как поочередно, словно лебединая стая, отплывали из гавани Константинополя белопарусные дромоны[2], как мерно, слаженно опускались и поднимались весла под руками загорелых гребцов, как ветер раздувал флаги и качалась деревянная палуба. Отрок больше любил сказы о битвах, залпах стрел, волнах греческого огня. Мать смеялась – греческий огонь у тебя в крови, милый. Вправду – Борис уродился смуглым, черноглазым и медно-рыжим, хоть костер от волос пали. И сестра его, Зоя-Заюшка, удалась златовласой, бронзовокожей красой – даром что ли берет ее Даниил Бельцский, после Яблочного Спаса и свадебку отгуляем.
В ближней горнице шевельнулся горбатый забавник Боняка – преданный, словно пес, он всегда норовил сопровождать господина. Но князь отстранил раба. И сонному гридню[3] велел оставаться у хором, сторожить домину. Препоясался только ножом, свистнул Серку и пошел по росистой тропке, босиком по корням и глине. Одиночество зверя в лесу, полном шорохов, хищников и добычи, манило Бориса, притягивало, словно свеча притягивает бестолковых маленьких мотыльков. Он хотел бы быть быстрым пардусом, или соколом, или волком… Но человеческое оставалось сильнее, негоже крещеному бесовским блудом маяться, даже в мыслях. А вот в том, чтобы кинуться сильным телом в тугие, темные волны, греха не было. Князь долго плавал, разрезая руками воду, нырял, словно рыба в заходящей луне, со смехом пробовал ловить серебристых рыбешек. Он углядел краем глаза, как играют в корнях водяницы, жаль чудо-девки исчезли, стоило ему приблизиться. Чур их. Серко тихонько лежал на берегу, сложив лобастую башку на лапы, – прав был братец, волчья кровь течет в этой собаке. Князь сел рядом, запустил пальцы в желтоватую жесткую шерсть, пес вздохнул и придвинулся ближе, согреть ноги хозяину. Третий месяц как разлученный с семьей, Борис скучал по жене и детям, но Янушка собралась оставаться в Дорогобуже до полного выздоровления матери.
Прохладный туман поднялся с воды, окутал длинные ветви яворов и далекие дубы. Птичий хор засвистал с новой силой, ему откликнулись ранние петухи. Небо было уже почти светлым. Князь оделся и неспешно пошел назад. Мощный тын городища наполнил Бориса гордостью – семь лет назад на ладыжинских холмах у слияния Буга и Сальницы стояла кучка дворов, кое-как отгороженных. Место вроде хорошее – и для хлеба, и для пчел, и для рыбы, и для торговых путей – а почитай пустовало. Болтали, мол, при Владимире-Солнышке старый Ящер летал в тех краях, похищал себе девок, а кто против вставал – вместе с хатами жег. Потому и селились здесь неохотно и дочерей выдавали замуж, едва дождавшись первой крови. Взяв под руку Ладыжин, Борис пообещал, что сам пожжет или вразумит батогами всякого, кто про бесов поганых сказы сказывать станет. А подумав чутка, побалакал с Бонякой и первым делом, еще до княжьего двора, поставил деревянную церковь святой Софии и крест вызолотил – пусть бережет. Красота вышла несказанная – храмина, хоромы, терем девичий, дом дружинный. И народ подселяться пошел – запалили огнища, распахали поля, посадили черешни с яблонями, буренушек завели, коз, лошадок. Ловкие охотники повадились бить куницу, бобра и выдру, коих в чащобах водилось несчитано, бортники собирали душистый липовый мед, рыбаки коптили, а потом везли на продажу копченых голавлей, рыбцов и лещей. Кузню поставили, мастеровитого коваля Янка с собой привезла из Дорогобужа. Завести б еще стеклодувню, делать пестрые бусы, обручья, посуду дивную… Рассеянный взгляд князя прошелся по двору. Ставни высокого девичьего оконца отворились с легким скрипом. Из светлицы Заюшки неуклюже выбрался крупный сокол. Очень большой. Переступил лапами, резко крикнул – и спорхнул с подоконника в ночь. Это еще чья птица?!