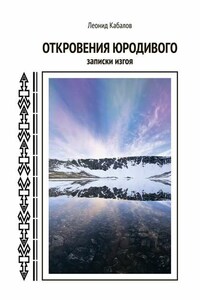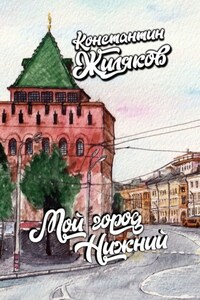– Дайте ландорик! Дайте ландо-орик! – просил и плакал насмешливый голос, не мужской и не женский – передразнивал кого-то; вдруг захохотал: – Какие глупые! Мы же падаем! Стуки уже, стуки… – и запел: – Да-айте ландорик!
К печальной этой больнице в почерневших березах я уже начинаю привыкать; и к пению, и к смеху, и к плачам, к бледным лицам с выражением лунатиков, к решеткам на окнах, запахам, стукам таинственным в темноте – привыкаю ко всему, но по ночам по-прежнему не могу уснуть, забываюсь только к утру, на рассвете: душа пытает… В церквах ударили большие колокола – благовесты, а за ними, как веселая детвора, побежали подголоски; видно, святой был праздник, но звуки церковной меди казались опрокинутыми, страдающими, и сердце упало, замерло… Дул ветер, и кричали черные птицы.
Эти птицы и колокола напоминали о гибели СССР, человеческих судьбах, жизни моей, и вспоминаются безумные голоса. Не сон ли? Колосс, возникший, как пламя, на руинах империи Российской, уже был весь в тупиках и искривлениях, сдавлен извне и внутри, но в нем еще чувствовались и направление и потенциал; разрушительное движение стало неожиданностью и было таким наглым, пошлым, что оторопели и законы и мораль. Меньшинство напирало на большинство, начался вандализм… Как болит голова, сердце, душа! Прочь, черные птицы, прочь!
Тускло в нашей палате, душно. Плачут где-то; должно быть, в конце коридора, в большой палате, где дверь всегда открыта. Плач глухой, сдавленный, словно кому-то было тяжело дышать. И напряжение во всем как перед грозой; запахи, веками копившиеся в больнице, теперь собрались вместе, и от них и тоски глаза сами закрываются, засыпаешь даже стоя. Топтыш-Коротыш, он же Егорушка, артист-куплетист, по виду лемур, уныло заглядывает под койки. Театр его сгорел, и он ищет поджигателей.
– Тьфу! Тьфу! – плюется Егорушка и плаксиво спрашивает о человеках мира – людях без родины.
Ему не отвечают – ни калачики, свернувшиеся на койках поверх одеял, ни лежавшие навзничь, глядя перед собой в потолок, как в небо… Не отвечаю и я; стою у окна и смотрю сквозь решетки на птиц, ссорящихся около мусоросборника во дворе больницы. Ворона отняла у голубя податливое что-то, тягучее, а галка то подскочит к добыче, то отскочит, рассчитывая, очевидно, тоже на долю. С запада надвигалась дождевая туча, такая мрачная, будто она заранее сердилась на тех, на кого надвигалась.
– Уже томит седьмое ожиданье Все африканцы я великий грек И встречно дышит грустное прощанье В индиговый, индиговый наш век…
Это Леша-Вася, сосед мой по койке, лежа навзничь, задрав подбородок с пушком, читает свои стихи, которые он, в пику стихотворениям в прозе, называет прозою в стихах, а чтобы пика была острее, не признаются и знаки препинания. Читает он нервно, с надрывом, по моде современной, но так, будто передразнивает кого-то, при этом светлые его глаза, тоже, должно, по моде, становятся стеклянными. На вид Леше-Васе лет двадцать пять, но он утверждает, что ему девяносто и еще много раз по сто. При рождении ему хотели дать имя Василий, а записали Алексеем, и теперь он не знает, какое имя у него настоящее, и при знакомстве так представляется: Леша-Вася, а когда я однажды по рассеянности-забывчивости назвал его наоборот – Васей-Лешей, он обиделся. Магия чудилась ему в именах, а у него была, выходит, двойная магия.
До больницы волосы у Леши-Васи были длинные, как у человека богемы, а теперь он стрижен, с шишками-буграми на темени. По образованию он инженер-электронщик, но представляется художником и показывает какие-то рисунки в меланхолических тонах; втайне же он воображает себя слепым поэтом древности, прозревшим зачем-то в теперешнее время. Инкогнито он на Земле и тайну эту доверил мне после того только, как узнал, что я тоже сочинитель и имею свои книги, повести и рассказы. Были у Леши-Васи и другие таланты. В дни солнечные он пел тенорком, очень жалостливо, а в непогоду, в ненастье передразнивал нас, и птиц, и тополь, росший перед окном с решетками нашей палаты, но особенно смешно изображал комаров, которые у него жужжали как мухи, но пискляво.
Все незнакомое Леша-Вася встречал сперва смехом, потом произносил незнакомое слово вслух, и если звучание нравилось, задумывался – магический искал смысл. И когда как-то за ужином в столовой я рассказал ему о ландориках, он тоже засмеялся, потом вслух произнес: лан-до-ри-ки… И задумался, а я стал объяснять, что ландорики – это обыкновенные лепешки, которые на Крайнем Севере пекут геологи в поле. От разочарования Леша-Вася чуть не заплакал и убежал, потом передразнивал ландорики, и те пели у него тенорком. Магию разрушил я своим объяснением.
Проза в стихах затихла, и я слышу, как Леша-Вася подкрадывается ко мне на цыпочках: любопытно ему, отчего я стою у окна так долго. Ссорящихся птиц уже не было, добыча брошена, а туча совсем рядом, еще минута – и ее космы нависнут над тополем и березами почерневшими. Громыхнуло, и в палате зажегся свет – зажегся сам по себе, но, может, исподтишка включил Леша-Вася, любивший все включать, не выключая. В туче блеснуло, тьма проворчала, и казалось, что в небе разжигают огонь и сердятся, что тот не разгорается.
– Если геометрит кто-то криво Это значит он и сам кривой, – по обыкновению без знаков препинания продекламировал Леша-Вася, очевидно, сочиненное только что.
Молния сверкнула ближе, и гром был уже с грохотом, страшнее молнии. И потом он становился все сердитее и угрюмее, а молнии длиннее и ослепительнее. Уже не разжигали-поджигали, а сверкала электросварка: небо разрезали! Черной, и лиловой, и сизой была туча, а из глубины ее, из тьмы-тьмущей, глядели чьи-то глаза… Не безумца ли, разрезавшего небо? Искривляясь, туча проходила мимо; сила, противостоявшая ей, одолевала, но в ударах грома все еще слышалось: стр-рах! стр-рах! В конце коридора снова плач сдавленный: словно душа чья-то потерявшаяся, бесприютная бродила в больнице, не находя себе места ни на одном из трех ее этажей.