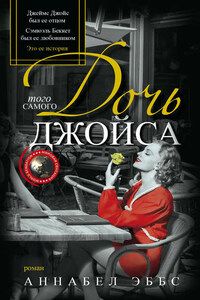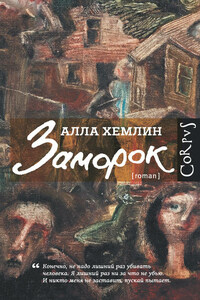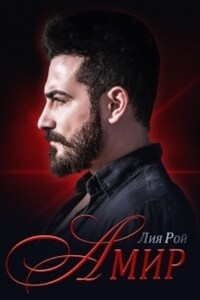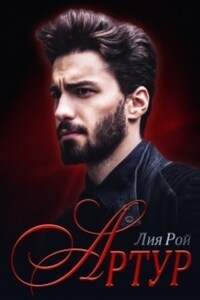Часть первая
Смерть – совершенствование глаза [1]
1
Итак, когда прошлой осенью я начал совершать вечерние прогулки, обнаружилось, что выбираться из Морнингсайд-Хайтс в город совсем нетрудно. По дорожке, сбегающей с холма за собором св. Иоанна Богослова и пересекающей парк «Морнингсайд», каких-то пятнадцать минут до Центрального парка. В другую сторону, на запад, – десять минут до парка «Сакура», а оттуда, повернув на север, можно двинуться к Гарлему вдоль Гудзона; правда, шум реки, отделенной от тебя деревьями, тонет в гуле автомобилей. Эти прогулки, служившие противовесом хлопотливым дням в больнице, затягивались, с каждым разом заводя меня всё дальше и дальше, так что поздно вечером я часто обнаруживал себя на немалом расстоянии от дома и должен был возвращаться на метро. Таким вот образом, в начале моего последнего года в психиатрической ординатуре, город Нью-Йорк прокрался со скоростью пешехода в мою жизнь.
Незадолго до того, как начались эти бесцельные шатания, у меня завелась привычка наблюдать за перелетными птицами из окна своей квартиры, и теперь я спрашиваю себя: не связано ли одно с другим? Если я довольно рано возвращался из больницы, то обычно смотрел в окно, словно авгур, гадающий по полету птиц, – надеялся узреть чудо естественной миграции. Всякий раз, когда мне попадались на глаза гуси, строем пикирующие в небе, я задумывался, как выглядит с их точки обзора наша жизнь внизу, и воображал: если бы они вдруг увлеклись такими спекуляциями, небоскребы показались бы им скоплением пихт в роще. Часто, прочесывая взглядом небосвод, я видел разве что дождь или бледный инверсионный след самолета, как бы разрезающий окно по биссектрисе, и тогда в закоулках сознания копошилось сомнение: да существуют ли они в реальности, эти птицы с темными крыльями и шеями, светло-серыми торсами и неутомимыми крохотными сердцами? Они настолько ошеломляли меня, что, когда их не было перед глазами, я просто-напросто переставал доверять собственной памяти.
Время от времени мимо пролетали голуби, а также воробьи, крапивники, иволги, танагры и стрижи – правда, по крошечным, одиноким, в основном бесцветным крапинкам, мелькавшим в небе, как искры, почти невозможно определить, какого они вида. В ожидании редких гусиных эскадрилий я порой слушал радио. Американских радиостанций обычно чурался – на мой вкус, там было многовато рекламы: вслед за Бетховеном – лыжные комбинезоны, после крафтовых сыров – Вагнер; итак, я включал интернет-станции из Канады, Германии или Нидерландов. И хотя слова ведущих я редко понимал, потому что их языками владел слабо, программы всегда абсолютно точно совпадали с моим вечерним настроением. Музыка была по большей части знакомая – я уже больше четырнадцати лет неотрывно слушал радиостанции классики, – но обнаруживалась и новая. А изредка случались минутные потрясения – например, когда на одной гамбургской станции я впервые услышал чарующую пьесу Щедрина (а может быть, Изаи) для альта с оркестром; ее название я до сих пор не выяснил.
Мне нравились полушепот ведущих, звучание этих голосов, спокойно беседующих со мной откуда-то за тысячи миль. Я приглушал звук в колонках компьютера и смотрел в окно, нежась в уюте этих голосов, и с легкостью напрашивалась аналогия между мной в квартире с голыми стенами и ведущим или ведущей в студии в час, когда в Европе, наверное, глухая ночь. Даже сейчас эти бестелесные голоса по-прежнему ассоциируются у меня со зрелищем перелетных гусей. А ведь перелеты я наблюдал нечасто – собственно, три-четыре раза за всё время, не больше: в типичный день видел только оттенки закатного неба: светло-бирюзовые, грязно-розовые и рыжевато-багровые, мало-помалу вытесняемые темнотой. Когда смеркалось, я брал какую-нибудь книгу и читал под старой настольной лампой, спасенной когда-то с университетской помойки; ее лампочка, накрытая стеклянным колоколом, струила зеленоватый свет на мои пальцы, книгу на моих коленях и драную обивку кушетки. Иногда я даже зачитывал слова из книг вслух, самому себе, заодно подмечая, как странно вплетается мой голос в полушепот французских, немецких или голландских радиоведущих или в тонкую текстуру скрипок симфонического оркестра, и эффект усиливался оттого, что текст, зачитываемый мной в эту минуту, в большинстве случаев был переводом с какого-нибудь европейского языка. Той осенью я, как мотылек, перелетал с одной книги на другую: «Camera lucida» Барта, «Телеграммы души» Петера Альтенберга, «Последний друг» Тахара Бен Желлуна [2] и так далее.
В этом состоянии звуковой фуги [3] я припомнил блаженного Августина и его удивление перед святым Амвросием: последний прославился тем, что изобрел способ читать, не произнося слов вслух. А ведь и впрямь кажется странным – сам до сих пор изумляюсь, – что мы можем понимать слова, не выговаривая их. Августин полагал, что весомость и внутренняя жизнь фраз лучше воспринимаются на слух, но с его времен наши представления о чтении существенно изменились. Нам слишком долго внушали, что разговаривать с самим собой – знак чудачества или безумия; звук собственного голоса стал нам совершенно непривычен, кроме как при беседе с другими или в неистовствующей толпе: хором вопить неопасно. Но книга предполагает разговор: человек говорит с человеком; а для такого диалога звучание, различимое слухом, – наоборот, совершенно естественно или должно быть естественным. Итак, я читал вслух, сам себе слушатель, и становился рупором для слов другого.
В любом случае, эти необычные вечерние часы текли легко, и я частенько засыпал прямо на кушетке, лишь намного позже – обычно сильно за полночь – принуждал себя перебраться на кровать. А затем – всякий раз казалось, что удалось поспать лишь две-три минутки, – меня резко будил писклявый будильник сотового, «O Tannenbaum» [4] в диком переложении для чего-то наподобие маримбы. В эти первые мгновения наяву, когда в лицо бьет внезапный утренний свет, мои мысли носились по кругу, выуживая из памяти то обрывки снов, то фрагменты книги, над которой меня сморило. И потому, чтобы нарушить монотонность этих вечеров, я совершал прогулки: каждую неделю два-три раза после работы в будни и как минимум один раз по выходным.
Вначале я находил, что улицы – это нескончаемый гам, настоящий шок после дня, проведенного в сосредоточенности и относительном спокойствии: всё равно, что, врубив телевизор, взорвать умиротворенность тихой домовой часовни. Я лавировал в толпах покупателей и офисных работников, петлял между асфальтоукладчиками и истошно сигналящими такси. Прогулки по оживленным городским кварталам означали, что передо мной мелькало больше людей – на несколько сотен, если не тысяч больше, – чем я привык видеть за весь день, но отпечатки этих бессчетных лиц в моем сознании ничуть не умеряли – какое там, только усиливали – чувство изоляции. Вдобавок от прогулок я стал сильнее утомляться, причем эта измочаленность отличалась от всех разновидностей усталости, изведанных мной с первых месяцев в интернатуре, – то есть за последние три года. Как-то вечером я просто шагал без остановки, дотопал аж до Хаустон-стрит – отмахал около семи миль – и обнаружил, что изнурен до одурения и валюсь с ног. В тот вечер я вернулся домой на метро и вместо того, чтобы немедленно уснуть, просто валялся на кровати – переутомление не отпускало из яви в дрему, так что, лежа в темноте, я воспроизводил в памяти многочисленные происшествия и картины из своих странствий, сортируя поочередно: так ребенок играет с деревянными развивающими кубиками, додумываясь, в какое отверстие вставить тот или другой, что на что похоже. Казалось, каждый район города состоит из своего особенного вещества и в каждом районе свое атмосферное давление, свой уровень нагрузки на психику: яркие огни или скрытые железными ставнями витрины, муниципальные многоэтажки или роскошные отели, пожарные лестницы или городские парки. Я продолжал этот пустопорожний труд сортировщика, пока формы не стали перетекать друг в дружку и приобретать абстрактные контуры, не имеющие ничего общего с реальным городом, – только тогда мой беспокойный ум наконец-то сжалился надо мной и унялся, только тогда меня накрыл сон без сновидений.