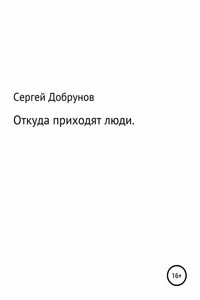Откуда приходят люди
Просыпался я в то давнее время рано, будить меня никто не будил, но ещё сквозь
сон я слышал голос моей бабушки, Марии Сергеевны, самого близкого мне тогда и любимого мной человека. В эти столь ранние часы она сидела с мамой на кухне и рассказывала ей что-нибудь из своей жизни.
Она уже много лет жила одна и поэтому, когда мы приезжали к ней, просто хотела поговорить. Старики живут прошлым, вот и она вспоминала нелегкую свою жизнь. И я, ожидая чего-то интересного и приятного от этих рассказов, укладывался поудобнее тихо слушая и испытывая чувство полного счастья и спокойствия, какое бывает только в детстве и какого уже больше никогда не будет.
Я был единственный мужчина в доме, семи лет от роду, поэтому спал один в гостиной на старом диване. Диван этот, как и вся мебель, пришел вместе с бабушкой из прошлого и был совсем не таким, какие появились уже тогда. Узкий и не длинный, без спинки, обитый когда-то кожей, теперь потрескавшейся по углам, он, скорее, предназначался, чтобы сидеть на нем. С одной стороны у него располагалась пологая подушка, плавно поднимающаяся с сиденья, а с боку этой подушки, где складки кожи веером сходились к центру, помещалась медная голова льва с открытой пастью и острыми зубами. Вот этот диван и понравился мне своей необычной формой и особенно, львиной мордой. Напротив него, между окнами, на старинном комоде среди других вещей стояла фотография в рассохшейся деревянной рамке, где на краю этого самого дивана, видно еще совсем нового, сидел, закинув ногу на ногу и держа в руке горящую папиросу, незнакомый мне мужчина в черном костюме с галстуком, а рядом с ним, положив ему руку на плечо, стояла молодая женщина с очень знакомыми чертами лица, в длинном белом платье и высоких черных ботинках на шнурках. Внизу стояла дата – 1924 год.
В то летнее утро шел дождь, я немного проспал и чуть не опоздал к началу рассказа, поэтому, встрепенувшись, стал внимательно слушать. Речь бабушки сливалась с ударами капель о подоконник, в доме было тепло и уютно…
–
Ты знаешь, душа моя, сегодня пятьдесят лет одному весьма значительному и трагическому событию. Эта было так давно, словно в другой жизни… и если бы этого не произошло, то и тебя, и детей твоих может быть и не было бы на свете. Все могло быть иначе. И, не в обиду тебе будь сказано, всю жизнь жалею о том, что так вышло…
Произошло это летом тринадцатого года. Отец мой был управляющим на шахте, жили мы вполне хорошо, обеспеченно, и, когда я окончила гимназию, он отправил нас с мамой отдохнуть в Одессу. Были, по-моему, еще и чисто деловые цели поездки, которыми должна была заняться мама. Отправились мы в конце июля, погода стояла жаркая, солнце нещадно палило землю, будто подготавливая ее и людей к предстоящим испытаниям. Мы ехали поездом с пересадками, но по тем временам с большим комфортом. Я была в том возрасте, когда считалось нужным выходить замуж. Мама все устраивала вокруг меня надлежащим образом. Внешности она была заметной, с тяжелой фигурой, характером волевая, даже я ее побаивалась, а уж проводники в поездах и на вокзалах признавали в ней, как минимум, генеральскую жену и обращались с ней подобострастно и уважительно. Дорога доставляла мне немалое удовольствие, потому как я впервые покинула родные места.
Я смотрела на все удивленно и выглядела, наверное, немного глупо.
Что такое Одесса в тринадцатом году? Правда, какая она сейчас, я не знаю (больше там не была), но тогда этот город очаровал меня. Отлично помню тот дом в Лузановке, который нам сдали быстро благодаря маминым стараниям и неисчерпаемой ее энергии. Мы сняли две комнаты на первом этаже в доме местного врача. Окна наши выходили в небольшой дворик, где росло много роз самых разных цветов. И запах этих роз наполнял наши комнаты и саму мою душу счастьем и ожиданием чего-то значительного и такого важного в моей жизни, что сама Одесса и море, видневшееся вдали за этим двориком, казались мне прелюдией к этому большому счастью – впереди была вся жизнь.
Я готова была целыми днями гулять по Дерибасовской. Особенно мне нравилась тенистая Пушкинская, а потом мне сразу хотелось идти к морю, бежать вниз по лестнице и подниматься назад и махать рукой каменному Решилье… Жара нисколько меня не мучила, а вот мама… ей, конечно, приходилось туго, она то и дело садилась отдыхать где-нибудь в тени. Я не могла усидеть, все хотелось увидеть:
– Что там за углом, мама, пойдемте посмотрим, там и отдохнете, – говорила я ей каждый раз, когда она намеревалась присесть.
– Хорошо, душа моя, пойдем, только не спеши так.
Она прикрывалась зонтиком, обмахивалась веером и несла свое тяжелое тело туда, куда меня влекло. Раньше в Одессе она тоже никогда не была, и видно было, что ей самой все интересно. А когда мы первый раз сели в трамвай, то упоение движением и звонками вызвало у меня дикий восторг, я чуть ли не кричала от удовольствия.
После таких прогулок мама на следующий день никуда ехать не хотела, и мы проводили его у моря. Пляж, что располагался ближе всего к дому, вовсе не был местом специально приспособленным для купания. Это был чистый и ровный берег, усыпанный галькой пополам с песком. Маленький ресторанчик одиноко стоял в одном его краю. Купались здесь и снимали квартиру в основном люди средней руки, поэтому народа на пляже было немного.
Хозяева наши оказались очень милыми людьми: Николай Иванович – врач, уже немолодой мужчина, седоволосый, с аккуратно стриженной бородой, степенный и рассудительный человек. При каждой встрече он почтительно склонял голову. Одетый всегда очень аккуратно, он вызывал во мне большую симпатию и отчасти чем-то напоминал папу. Жену его звали Наталья Александровна. Она, наоборот, была энергичной и беспокойной женщиной, худенькой и небольшого роста. Не работала, весь день свой занималась домом и цветами.
Поначалу мы собирались все вместе за столом.
Начало всей той драме получилось во время нашего с мамой посещения театра, хотя я тогда и не придала этому особого значения. Уже, когда мы поднимались по ступенькам огромного его крыльца, было такое чувство, что я прикасаюсь к одному из значительнейших творений человечества, вхожу в удивительный храм искусства, и оперного, и архитектурного. Внутреннее убранство этого храма поразило меня своей красотой и изяществом, и чувство собственного ничтожества перед этим творением рук человеческих овладело мною. Однако мы вошли туда, и никто нам ничего плохого не сделал. После того как швейцар проводил нас к проходу в партер, вежливо улыбнувшись и склонив голову на прощание, я осознала вдруг, что весь этот удивительный мир принадлежит и мне, что я такой же человек, как и все, собравшиеся здесь люди.