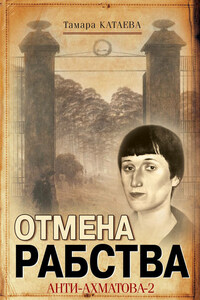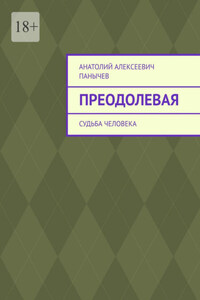Начиналось не нами и не вчера.
Алексей Толстой <…> вместе с Волошиным примется за пьесу, где будут выведены Ахматова и Гумилев. <…> Поэтесса Елена Грацианова сознательно создает себе репутацию «фантастической женщины» и femme fatale, оставаясь при этом холодной, как лед. Антиэротичная Елена соблазняет людей, чтобы воспользоваться ими для литературного или социального успеха. Ее мечта – слава, пусть дурная, лишь бы стать над другими, хоть на час. Интересно, что она диктует влюбленному в нее критику слова похвальной статьи. Эта страсть к тотальному контролю своего литературного и публичного имиджа также вполне вписывается в гипотезу о портретности или, вернее, памфлетности пьесы Толстого.
А.Н. Варламов. Алексей Толстой. ЖЗЛ. Стр. 90
Мы начнем с Исайи Берлина – он был самым главным из людей в ее жизни, самым «ахматовским» – выдуманным, использованным, лишенным права на собственную жизнь.
…цикл стихотворений Анны Ахматовой о Дидоне и Энее. Она написала их после расставания с любимым. Себя она представила Дидоной, а того человека – этаким Энеем. Между прочим, тот человек еще жив.
И. Бродский. Интервью Анн-Мари Брумм. Стр. 20
Были вместе. Расстались. После расставания – с любимым – стихи. Что же было, когда пара была ВМЕСТЕ?
Естественно, отнюдь не из скромности, не из желания быть сдержанной в рассказах о своей личной жизни, она ничего не рассказывала юному Бродскому о том, что БЫЛО у нее с г-ном Берлиным. Отработанная многозначительность пауз и умолчаний выразительней любых самых цветистых повествований – у нее не было выбора, любой другой прием разоблачил бы ее – достигла своей цели. Бродский тоже настойчив в продвижении мысли, что история имела реальную основу. «Человек этот жив». Он видел его, живого – он, видевший живую Анну Андреевну Ахматову, садившийся с нею рядом, слышавший запах ее дыхания, чувствовавший шевеление ее тела, видевший блеск натянутой на распухающей руке кожи. Руке, поднимающей бокал, держащей перо. Оказывается, ей хотелось, чтобы кто-то жал ей эту руку со страстью. И в доказательство того, что это возможно, она называла имя еще живого человека.
Иностранная журналистка могла понять только это.
Объяснить то, что знал Бродский – и сейчас это скрывал, – было невозможно: там, в оставленном Советском Союзе, главным и единственно важным было только то, что реальным и слитым воедино с Анной Андреевной был именно ИНОСТРАНЕЦ, профессор, полностью устроенный человек, западный человек, свободный – пусть в реальной своей жизни хоть сколько угодно несвободный, но советские были эгоистичны до жестокости и ничего такого знать не хотели, англичанин.
Бродский вступил с нею в заговор.
Ну, ты попал!
Апологеты настаивают, что жизнетворчество – это и хорошо, и нужно, и повсеместно распространено, и Бродский пишет poet is a hero of his myth, будто поэту больше нечем заняться, будто без перекачки сил на формирование какой-то определенной, весьма красивой, рассчитанной и, соответственно, упрощенной и прямолинейной биографии потеряет что-то и поэт весь, целиком – хотя дело обстоит как раз наоборот, и, как это очень наглядно произошло в случае Ахматовой, природных ресурсов может не хватить, все уйдет на техническое обслуживание трубопровода. Вместо того чтобы реально согреть что-то своим небольшим, но – какой есть – теплым и светлым огоньком.
Женские штучки: не скрою от вас, должна сознаться. Женщина для Ахматовой – это тайна. «Вы сказали ему?» (кто у вас был первым). – Она (тихо-тихо): «Сказала».