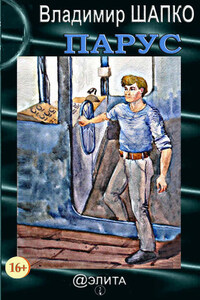1. Марка Тюков. Он же – Казл. Он же – Осл
На голой площади перед горсоветом, пока мать нервно озиралась, Марка смотрел на крышу горсовета. На острую, выстриженную из железа штуковину, легко сквозящую в утреннем солнце. Штуковина была как комбайнёр. Который из пшеничного венка лыбится… Марка хотел спросить про штуковину… но мать сама приклонилась к нему, быстро шепнула: «Смотри!» Марка смотрел. На комбайнёра в солнце. На крыше. «Да не туда, не туда! – повернула его мать. – Вон тот дядя – Папа… – Подтолкнула: – Иди к нему… Поздороваться не забудь!»
Пятилетний Марка пошёл, очень умно обходя на асфальте лужи. Подошёл, громко, радостно прокричал:
– Здравствуйте, дядя Папа!
Рубашка на нём была белая, а штанишки с лямками – чёрненькие. Сандалии на ногах будто отсолидоленные. И голова только вчера подстриженная. Под ноль…
– Здравствуйте, дядя Папа! – ещё раз крикнул Марка. Но дядя Папа смотрел на него и почему-то не здоровался. Потом сказал, что младенца всему можно научить. Да, всему, Марья Петровна!
Марья Петровна, она же – Маня Тюкова, сразу заходила неподалёку, завсплёскивала руками:
– Да не учила я его! Ей-богу, не учила! Филипп Петрович! – Не выдержав, подбежала: – Учила я тебя? Учила? – Дёргала за руку: – Учила?! – Поддала по попке: – Учила, на́дурный! Говори!
Марка запел:
– А чего она дерётся, дядя Папа-а-а!
Да, что тут скажешь? Как говорится, устами младенца. Всё понятно. Новый выходной костюм Филиппа Петровича в пожарном длинном рукаве имел вид тарантула. Ноги в белых носках и мокасинах походили на перебинтованные кирки́. Филипп Петрович был сельский интеллигент. Он был Зоотэхник. Шляпа, понятное дело. Галстук как вожжи… И вот приехал. Встретили, что называется… «Дядя Папа»!
– Да не учила я его! Ей-богу, не учила!
– Ладно, чего уж теперь? Раз приехал? Встретили. Пойдём, Марк. Со мной будешь сегодня.
– Меня Маркой зовут, Маркой! – закричал Марка.
Филипп Петрович удивлённо воззрился на бывшую жену, за руку держа сына…
– Марка, Марка он! – примирительно толкала ладонями та. – То есть Марк, конечно, Марк! Марк Филиппович! Вы уж извините!
Отец и сын двинулись, наконец, с площади. Маня тоже пошла. Но в сторону. Чуть не на цыпочках. Не смотрела на них, отворачивалась. Словно боялась сглазить, спугнуть. Но мальчишка опять закричал, вперебой поддавая ножками:
– Марка я, Марка! – И дёргал, дёргал отца за руку, как безвольного… Господи, что будет!..
Когда вечером Марка был приведён к бараку и отпущен, Маня Тюкова и старуха Кулешова во все глаза смотрели из окна, как Филипп Петрович уходил обратно к Нижегородной, чтобы оттуда ехать в Дом колхозника, где должен ночевать. Руки Филиппа Петровича в длинном рукаве продольно-преданно ходили у боков. При пряменькой спине. Человек то ли на лыжах шёл, то ли хотел подраться боксом… «Такого мужика проср…!» – Кулешова села. Всегдашний зоб её подрагивал. Как шершавые дрожжи. «Дура ты, Манька, дура! Прости, господи! Кулёма!» Маня Тюкова покусывала губы, нервничала. «Напяливай теперь железки-то, напяливай!», – всё сердилась, добивала Кулешова. В виду имелись несколько бигуди, болтающихся на Мане. Подобно забытым детским скакалкам… «Напяливай теперь…»
В комнату Марка ввалил с алюминиевой саблей, навешенной на него. Как с яхтой. Маня кинулась к нему, оглядела всего, как будто неузнаваемого, чужого. «Ну, что он сказал, что?»
Сын был туг, как мяч, сопел, пои́кивал. Вокруг губ насохло то ли от пирожного, то ли от мороженого. Сабля на боку висела по-прежнему – как перевёрнутая яхта. «Ну, ну!» Сын с гордостью сказал:
– Ты – Казл, Марк! А также – Осл!
– Какой Казл? Когда, когда сказал?
– В столовой. Когда я опрокинул ему чай на брюки… Ты – Казл, Марк, сказал. А также – Осл!
Маня отнеслась к сообщению осторожно, уважительно. Потом вдруг ти́хонько засмеялась, ловя в ладошку смех. «Костюм-то новый, совсем новый! Вот смеху-то!»
Кулешова не знала, что думать. Казл… Может – что ветеринар? По-ветеринарному это? Язык у них такой? Осл…
Марка покачивался от усталости и сытости. Без сандалий, заваленный с саблей на материну кровать, рассказывал, где они с папкой ходили и что они с папкой целый день делали. Всё в комнате было своим, ну вот прямо-таки свойским. Ходики по-птичьи маршировали на стене. Чайный гриб в банке сидел, как гроза… Марка попросил, чтоб налили от него. Соскучился. Наливая, мать сразу спросила про ядрёненькую – покупал ли? «Пок-купа-ал! – бесшабашно махнул рукой Марка. Прямо-таки кутила после кутежа. Похмельно отпил от «грозы»: – Такой же вкусной покупал. И мороженого – сколько я хотел! От пу́за!» Марка откинулся, икнул. Марка смотрел в окно. На алойке на подоконнике засохло солнце. Там же рядом сидела чёрная баба Груня без плеч. Марка опять стал рассказывать. Язык Марки заплетался. Марка заговаривался уже, как бредил. Комбайнёр на крыше железисто скалился. Награждённый пшеничным венком, выстриженным из железа. Марка торопливо дышал, оберегая дыханием комбайнёра. Ручонка Марки подрагивала на эфесе сабли – как на закрученном парусе.
Старуха Кулешова сидела, не уходила. На фоне затухающего окна являла собой бесплечую бомбу. Пеняла всё, всё наставляла. А Маня Тюкова, пригнувшаяся, согласно и повинно покачивала головой с тремя забытыми болтающимися бигуди. Как будто если так вот послушно выслушивать про себя плохое, что случилось с ней в деревне, так вот кивать, то всё хорошее, которое тоже было в деревне, вернётся, придёт, начнётся сначала, здесь уже, в городе, и оттолкнёт плохое, старое, как будто его в деревне и не было, а было там – только хорошее… «Кто хоть был-то он?» – «Комбайнёр. С Украины. На уборку приезжали. Марке два года было…» – «Эх, пороть тебя некому было тогда…» – «Да всего один раз, тётя Груша! Один раз и было. Завлекал. Ночью. На реке. На гармошке играл…» – «Э-э, «на гармошке играл»… А где ветеринар-то был?» – «Здесь, в городе. На учёбе…» – «Э-э, «на учёбе»… Цветок алое на окне чернел раздрыгой, словно высосанный ушедшим солнцем.
Утром Марка играл во дворе. «Апира́ты, выхватили сабли!» Подаренную саблю с бедра – вымахнул. Воинственно растаращился, пошёл по двору, высматривая что срубить. Забора у двора не было. То есть ничего, кроме зарослей репейников, в округе не росло. Марка как будто бы не знал об этом. Марка увидел вдруг репейник. Первый раз в жизни! «Апираты, на абарда́р!» Побежал. Высохший репейник зашумел от рубящей сабельки, как пчельник. Но ни одной головки Марке не отдал! Марка не унялся. «Апираты, за мной!» Побежал к другим зарослям. И там пчёлы зашумели, не дались… Тогда Марка бежал, размахивал сабелькой просто так, направо-налево, рубил воздух. «Я – Апиратор! (В смысле – пират). А также – Казл! А также – Осл!» Или остановится, как бычок раздувая ноздри. «Апираторы, где вы? Сю-да!» И помчался опять, махаясь саблей. И репейники опять зашумели!