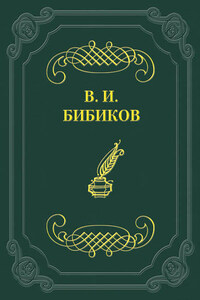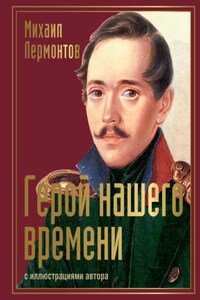И. И. Ясинскому
Все уже были одеты и собирались уходить, когда Хвостов-Трясилин объявил, что на лодке он ни за что не поедет.
– Это почему? – послышалось со всех сторон.
– Надо вам знать, что у меня астма и припадки этой болезни, еду ли я на железной дороге, пароходе или лодке, принимают острый вид панического ужаса… – На слове «острый» он сделал сильное ударение и заморгал глазами; все его бритое, большое лицо пришло в движение, он задержал дыхание и, пошевелив своими мягкими губами, издал звук, какой бывает, когда откупоривают бутылку с уже испарившимися газами.
– У меня перестает биться пульс, – продолжал он, – нет сердца, я начинаю рвать на себе одежду до рубашки включительно, мечусь, как разъяренный лев, по вагону, пароходу или вообще какой угодно дорожной тюрьме и выбрасываюсь из окошка. Согласитесь, что вид раздетого мужчины и приятная перспектива потонуть всем при моем прыжке из лодки не может особенно порадовать…
– Но разве вы не в состоянии себя сдержать; наконец, присутствие барышень… Неужели вы стали бы раздеваться при них? – заметил ему Степура.
– Э! так вы меня совсем не знаете! – с азартом воскликнул Хвостов-Трясилин. – Я и не такие штуки проделывал! Да вот я вам расскажу. Когда я воспитывался в Бразилии, то турецкий посланник, с которым я был близок, захотел устроить поездку в окрестности столицы всего за пятнадцать – двадцать верст. Я, как поэт, был душой общества, меня там очень любили, и я должен был принять участие в этой прогулке. В салон-вагоне уселись приглашенные. Все светские люди – дамы, кавалеры. В числе дам были принцессы крови с этакими чудными бриллиантами… Я несколько опоздал – меня задержал дома редактор одной большой политической газеты, где я писал передовые статьи по внутренним делам страны… Так что когда я вошел в вагон, меня встретили шумными восклицаниями радости, представили принцессам крови, и те сейчас же – ей-богу, даю вам слово – попросили меня читать стихи. Я начал читать свое самое радикальное стихотворение «Гимн сатане». Была тут одна французская принцесса, и она, понятно, пришла в восторг, так как по-французски я читаю – по крайней мере многие находят – лучше Коклена[1]. Не успел я кончить заключительного куплета, где до неприличия ясно, что поэт в сатане изобразил современного радикала, как раздался свисток, и поезд тронулся. Я почувствовал колыхание пола, у меня оборвалось дыхание, сердце и пульс перестали биться, я страшно побледнел, волосы встали дыбом, по лицу покатился в три ручья холодный пот, и я был убежден, что умираю. Сначала все думали, что меня расстроило мое страстное чтение, но скоро я их разубедил. Быстрым движением руки я разорвал жилет – в припадке я не расстегиваюсь, а рву; и с жилетом сорвал сюртук, чудный сюртук! Как теперь помню, я сшил его у тамошнего лучшего портного, одного негра, и заплатил сто восемьдесят золотых монет. Сбросив все это, я уже судорожно рвал рубаху и подбежал к окну вагона с понятной целью – выскочить. Но чья-то могучая рука схватила меня за воротник рубахи, я невольно повернул голову – на меня смотрели серо-стальные глаза маленького широкоплечего человека в черной одежде.
– Стыдитесь, – сказал он, – что подумают здесь о России?
Я сразу узнал в нем доктора – он был русский, – и эти глаза покорили меня.
Надо вам знать, что во время припадка на меня может подействовать только доктор. Меня, при всеобщем переполохе, увели в отдельное купе, где кое-как одели и успокоили. Но все-таки доктор до цели поездки держал меня за руки и магнетизировал своими взглядами. На пикнике я вел себя безукоризненно, но назад все-таки нашли нужным отвезти меня в извозчичьей коляске, причем со мной, чтобы не было скучно, сел турецкий посланник. Так вот на что я способен иногда в дороге и вот почему я не хотел ехать сегодня – я отравлю вам все удовольствие.
Молодые люди долго хохотали. Хвостов-Трясилин сам хохотал, но уверял, что все это правда, святая правда.
Зинаида Петровна, на лице которой выступил румянец стыда за эту ложь, – промолвила с натянутой улыбкой:
– Но вы все-таки поедете и будете стараться вести себя прилично, хотя бы для того, чтобы сдержать данное мне слово!
– Конечно, конечно, я повинуюсь и поеду, но ручаться не могу, и мое слово было дано в порыве увлечения, так как, собственно говоря, никаких слов давать не имею права, потому что я настоящая коробка с сюрпризами!
Зинаида Петровна посмотрела на Плавутина и встретилась с его внимательным взглядом; она покраснела еще больше и в порыве досады прикусила губу.
– Идем, Эраст Васильевич! вы своими рассказами только задерживаете нас.
Она взяла его под руку, и все двинулись.
Была прекрасная лунная ночь, и когда молодые люди спустились к лодочной пристани, где колыхались на воде привязанные железными цепями лодки самых разнообразных величин, то долго любовались чарующим видом недвижно спящей серебряной реки.
Выбрали очень большую лодку, в которой, кроме поперечных сидений, были две скамейки вдоль бортов; хозяин лодок заметил, который час, и все стали усаживаться.
Рассадка продолжалась минут десять: было много смеха, споров из-эа того, кому с кем сидеть рядом, с нем visa-vis, но наконец кое-как уладили.
Конец ознакомительного фрагмента. Полный текст доступен на www.litres.ru