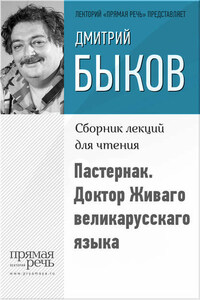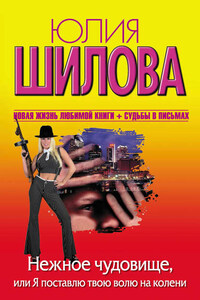Сегодняшняя наша ситуация довольно сложна: одна лекция о Пастернаке у нас уже была, и второй раз рассказывать про «Доктора…» – не то, чтобы мне было неинтересно, а, наверное, и вам не очень это нужно, поскольку многие лица в зале я узнаю. Следовательно, мы можем поговорить на выбор о нескольких вещах. Так случилось, что большая часть моей жизни прошла в непосредственном общении с текстами Пастернака и в писании книги о нем, и в рассказах о нем, и в преподавании его в школе, поэтому говорить-то я могу, в принципе, о любом его этапе, о любом его периоде – их было несколько и все они очень разные.
Мне было бы интереснее всего поговорить про 30-е годы, тем более, что есть замечательная книга Лазаря Флейшмана «Борис Пастернак в тридцатые годы», там есть, с чем поспорить, есть, чем восхититься и что обсудить. Можно еще раз, конечно, мучительно проговорить про «Доктора…», и в этом тоже нет большой драмы, потому что «Доктор…» все-таки самое загадочное, что есть в его биографии. Единственное, что я просил бы – не заказывать «Сестру мою – жизнь», так случилось, что я совсем не люблю эту книгу, то, что Пастернак считал у себя лучшим. Ну, надо же с ним хоть в чем-то расходиться.
Давайте убьем двух зайцев: я попробую рассказать про 30-е годы и через них подвести к генезису «Доктора…», тогда все будет несколько понятнее.
Когда мы говорим о «Докторе Живаго», всегда приходится преодолевать тяжелое внутреннее противоречие: мы понимаем, что это хорошая книга, мы, может быть, даже понимаем, что это великая книга, но читать ее и перечитывать мы не рвемся. А начав ее перечитывать, под действием увиденного ли фильма, услышанного ли совета, мы испытываем тягостную неловкость. Сначала нам кажется, что это очень плохо, просто неприлично плохо – и там есть много неприлично плохого с точки зрения традиционной прозы.
Потом мы пытаемся задать себе вопрос: а может быть, это так надо? Действительно, Пастернак – один из умнейших прозаиков своего времени, не говорю о нем как о поэте, поскольку здесь его заслуги бесспорны, он – один из умнейших, актуальнейших, нащупывающих всегда прозаический нерв эпохи. В огромной степени проза 1930-х сформировалась под влиянием «Детства Люверс», в огромной степени его фронтовые очерки задали стилевой эталон рассказа о войне, хотя он был всего в одной двухнедельной поездке в Орле. В общем, если он пишет плохо, то это ему зачем-нибудь нужно. Это совершенно очевидно. Ведь прощаем же мы Андрею Платонову его чудовищный вымороченный язык. Почему бы нам не признать за Пастернаком право на такую же языковую полифонию?
Вот здесь, наверное, первый ключ к роману, который более или менее понятен. Ключ статистический. Если подсчитать количество причастий, вот всех этих «-ущих», «-ющих», «-ащих», «-ящих», которые переполняют «Доктора…» в партизанской части, в части военной, мы физически ощутим напряжение, сопротивление языка, мы почувствуем, как тяжело, плотно, многословно все описывается, как сосредоточивается автор на мельчайших, вроде бы никому не нужных деталях, и мы с ужасом узнаем в этом стиль большевистского декрета.
Подсчитано многими, что в ранних, тех детских, мальчишеских, прелестных главах «Доктора…», в которых впервые появляются Дудоров, Гордон, Лара, количество слов, длина предложения в среднем в три-четыре раза меньше, чем в ранних пастернаковских сочинениях, например, в «Воздушных путях» или «Истории одной контроктавы». Ранний Пастернак страшно многословен. Зато в начале «Доктора…» он пишет, как написал он однажды в одном из писем к Ните Табидзе: «Просто, прозрачно, печально». И вот эта простота, прозрачность, детская, чистая интонация ранних глав вдруг начинает сменяться чудовищными многосоставными, длинными фразами, описаниями партизанского движения, дикими цитатами из большевистских декретов. Пастернак пишет этот роман многими голосами и, если угодно, многими перьями. Как мы свыкаемся с речью Платонова, в которой, как сказал Бродский, происходит главная трагедия: гибнет не герой, а гибнет хор, точно так же придется свыкаться с тем, что проза Пастернака в «Докторе…» полифонична, что в ней нет единого стиля.
Второе, что нам бросится в глаза при перечитывании «Доктора…» – это удивительная для Пастернака тональность этой книги. Она ничего не имеет общего с тем Пастернаком, к которому мы привыкли – восторженным, мычащим, гудящим, невнятно формулирующим, всегда куда-то несомым как вихрь. Она ничего не имеет общего и с Пастернаком «Спекторского», скорбным, пережившим себя, готовящимся к ранней старости. Ничего общего с Пастернаком переделкинского цикла – «Вальса с чертовщиной» или «Вальса со слезой».
Главная интонация «Доктора Живаго» – это интонация до смерти раздраженного человека. Человека обозлившегося, человека, которому все не нравится, и он наконец-то решился об этом сказать.
Что касается композиции книги, того, как соотносятся ее первые две трети и последняя треть (я-то считаю, что последняя треть там лучшая, как и в «Тихом Доне» – такое почти посмертное бытие человека, который увлекся исторической бурей, пережил ее вместе со страной и теперь доживает – доживание Юрия Андреевича составляет последнюю треть книги) – мне кажется, Пастернак и в обычной своей бытовой стратегии соблюдал вот это соотношение 2:1. Сначала он бесконечно долго гудит, шумит, отнекивается и повторяет свое вечное любимое «да-да-да, а может быть, я не прав, да-да-да», потом происходит какой-то перелом – «Нет! – резко говорит он, и после этого добавляет: – Может быть, я не прав, но идите все к черту!» Многие вспоминали это в нем.
Пастернак вообще принадлежит к числу людей, которые очень долго, невероятно долго терпят и потом вдруг резко обрывают. Так он в 1954 году оборвал отношения с Борисом Ливановым, когда написал ему совершенно чудовищное по тону, неожиданное для Пастернака письмо. История была следующая. Ливанов ворвался к Пастернаку на дачу пьяный с двумя друзьями, страшно гордясь перед друзьями, что может прийти к Пастернаку, вот так запросто по-ноздревски, начал говорить: «Борька, Борька, ты сам не понимаешь, какой ты гений! Зачем же ты пишешь прозу? Ведь ты прирожденный поэт!»
Пастернак ночь промучился бессонницей, глуша себя снотворными, а наутро написал гневное, раздраженное письмо, главная тональность которого – «идите вы все к черту!». «Как ты собираешься играть Гамлета? С чем ты собираешься его играть?!» – слова, которые Пастернак по отношению к старому другу никогда бы не мог себе позволить. Это привело к бурному разрыву. Пастернак на следующее утро, отоспавшись, лично поехал без предупреждения к Ливанову просить прощения, но принят был очень холодно. И подумал, что, наверно, так и надо.