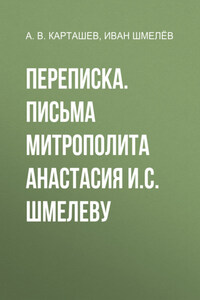«Наше сердце бьется эсхатологически»
Писатель Иван Сергеевич Шмелев (1873 – 1950) и богослов Антон Владимирович Карташев (1875 – 1960) познакомились в Париже в марте 1923 г. Возможно, это произошло в Республиканско-демократическом русском клубе или на каком-то литературно-общественном собрании. Каждого из них судьба привела в столицу русского рассеяния своим путем, у каждого имелся свой «багаж», свое прошлое, свои причины покинуть Родину и свои планы на дальнейшее существование. Шмелев выехал из России в творческую командировку, чтобы посмотреть Европу и набраться впечатлений для романа «Спас Черный». За плечами у него стояли голод в Крыму, разоренном новой советской властью, ужасы красного террора, расстрел горячо любимого сына Сергея. Карташев оказался в Париже с особой миссией – бороться с большевизмом, собирать «политические силы эмиграции под прежним знаменем в виде Русского национального комитета». Ему, видному церковному деятелю, на протяжении 1917 г. довелось примерить роль министра исповеданий в правительстве А.Ф. Керенского, открыть Всероссийский церковный собор, восстановивший патриаршество, и отсидеть несколько месяцев в тюрьме. Чудом он избежал смертной казни после освобождения в 1918 г.; жил нелегально в Москве, состоя одновременно членом Высшего церковного совета при патриархе Тихоне и членом антибольшевистской политической организации «Левый центр». Затем был побег в Финляндию под новый 1919 г. и организация в Гельсингфорсе «Политического совещания» при генерале Юдениче.
Подружились два человека из разных культурных пространств и общественных сфер. Шмелев – коренной москвич, из купеческого сословия, выпускник юридического факультета Московского университета, писатель-реалист, поддержанный А.М. Горьким и печатавшийся в его сборниках «Знание». А Карташев был выпускником Духовной академии; симпатизировал петербургской богемной среде с ее богоискательством и даже состоял в свободной «церкви», учрежденной четой Мережковских; занимал должность председателя религиозно-философского общества. Роднило их нечто более глубокое, скрытое под наслоением образования, профессии, усвоенных идей и мнений. Шмелев это остро почувствовал и выразил в одном из своих ранних писем, адресованных Карташеву: «Вы – от народа. Я – от народа, тоже. Одного теста с ним, одной персти, одного солнца, одной мякины и одного и того же духа, навыков предков, связанные общей пуповиной с недрами всей жизни русской, с духовными и плотскими, мы – лик народа, мы – его выражение! Мы, лишь благодаря окультуриванию, обдумыванию, образованию, – лишь более яркое лицо его» (наст. изд., с. 31). Автобиография Карташева содержит некоторые сведения об истории его рода: «Семьи со стороны отца и матери были из крепостных крестьян туляков, получивших на Урале звание “горнозаводских рабочих”… Прадед – … был управителем завода, дед – помощником казначея, и отец (род. в 1845 г.), прошедший еще Николаевскую двухклассную министерскую школу и вышедший только 16-ти лет (1861 г.) из состояния раба, стал, с введением Земства, волостным писарем, затем земским гласным, и, наконец, с 1879 г. членом Земской управы. Семья переселилась в Екатеринбург… Пафосом семьи было “выйти в люди” путем образования» (Автобиография Антона Владимировича Карташева // Вестник РСХД. 1960. № 58–59. С. 57). Шмелев также происходил из землепашцев, ставших московскими предпринимателями: «Прадед мой по отцу был из крестьян Богородского уезда Московской губернии. В 1812 году он уже был в Москве и торговал посудным и щепным товаром. Дед продолжал его дело и брал подряды на постройку домов <…> Отец <…> занимался подрядами: строил мосты, дома, брал подряды по иллюминации столицы…» (Шмелев И.С. Автобиография // Собрание сочинений: В 5 т. T. 1. С. 13).
Тема русского крестьянина, его участие в революции 1917 г. обсуждалась в переписке Шмелева и Карташева. Поводом послужила брошюра Горького «О русском крестьянстве», изданная в 1922 г. за границей (Берлин). Миф о ленивом и диком русском мужике получил в ней полное оправдание. Для Горького Россия представляется огромной равниной, на которую брошен земледелец, в чьем сознании продолжают жить инстинкты кочевника, поэтому свой пахотный труд он воспринимает как наказание. С детства он затвердил себе сказку о некоем «Опонькином царстве» с кисельными берегами и молочными реками: «Русский крестьянин сотни лет мечтает о каком-то государстве без права влияния на волю личности; на свободу ее действий – о государстве без власти над человеком» (Горький М. О Русском крестьянстве. Берлин: Изд. И.П. Ладыжникова, 1922. С. 6). Пробовал Горький искать доброго и милосердного мужика, описанного русской литературой, и нашел хитрого и жестокого собственника земли. Революция вскрыла в нем все его пороки: равнодушие к голодающим, ненависть к образованию и прогрессу. Не обнаружил Горький в народе и капли набожности: никто якобы не бросился защищать церкви и монастыри от разграбления и осквернения, равнодушием отреагировали на закрытие Киево-Печерской и Троице-Сергиевой лавр: «Как будто эти центры религиозной жизни вдруг утратили свою магическую силу…» (там же. С. 29). Ненависть мужиков к городской культуре больше всего раздражала Горького. Ведь город – это творение рук образованных людей, интеллигенции, которая взялась за непосильное дело, за очищение, по его словам, «Авгиевых конюшен русской жизни». В книге Горького помимо жертвенно служащей народу интеллигенции нарисован еще один положительный образ. Русскому мужику противопоставлен европеец, энергично преображающий окружающую среду.
Брошюра Горького упомянута в письме Карташева от 6/19 сентября 1923 г.: «Разве в гнусной как все, исходящее от Горького, брошюрке его о русском крестьянстве нет уже подземных толчков грозящего взрыва изнасилованной интеллигентами народной души?» (наст. изд., с. 28). Карташев, очевидно, отмечая «толчки грозящего взрыва» в народе, ссылается на Горького опосредованно, через хлесткую рецензию на его книгу Е. Кусковой. Именно в ее статье продемонстрировано, как Горький, сам того не замечая, показывает удивительную смекалку мужика, приводя меткие народные изречения и мысли о революции: «Умный крестьянин понимает, что на земле “порядка нет”, может быть даже стал понимать, как этот порядок надо установить, может быть нам, образованным, важно было бы мнение этого сына пустыни и каторжного труда спросить, узнать, к этому все вести и этого добиваться, а мы только ставим штемпеля и приговоры: “Этот зверь, тот не годится, вот этот садист…” Другие собеседники Горького, тоже крестьяне, полностью развернули основную черту своего миросозерцания: