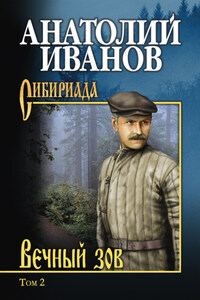1. АЛЕШКА. 9 ИЮЛЯ 1978 ГОДА. МОСКВА
Я знал, что это сон.
Небыль, чепуха, болотный пузырь со дна памяти. Дремотный всплеск фантазии пьяницы. Судорога похмельного пробуждения.
Но сил прогнать кошмар не было. И не было мысли вскочить, потрясти головой, закричать, рассеять наваждение…
Услышал негромкий стук, даже не стук, а тихий треск расколовшегося дерева. Торчит из двери огромный нож. Кинжал с черненой серебряной ручкой, весь в ржавчине и зелени, еще мелко трясется. И прежде чем он замер, я разглядел на рукоятке выпуклые буквы «SSGG». И хотя я никогда в жизни не видел этого кинжала, я сразу сообразил, что это повестка тайного страшного суда «ФЕМЕ». Не шелохнувшись лежал я на тахте, глядя с ужасом на вестника кары, и пытался сообразить – почему мне? За что?
Дверь неслышно растворилась, и я увидел их. Трое в длинных черных капюшонах с прорезями для глаз и рта. Но обувь у них была обычная – черные полуботинки. И форменные брюки с кантом.
Они молча смотрели на меня, но во сне не нужны слова, мы хорошо понимали друг друга.
– Ты знаешь, кто мы? – беззвучно спросил один.
– Да, гауграф. Вы судьи Верховного трибунала «ФЕМЕ».
– Ты знаешь, кто уполномочил нас?
– Да, гауграф. Вас наделили беспредельными правами властители мира.
– Ты знаешь, что мы храним?
– Да, гауграф, вы храните Истину и караете праздномыслов, суесловов и еретиков.
– Ты знаешь символы трибунала «ФЕМЕ»?
– Да, гауграф. Штрих, шиайн, грюне грас – «петля и камень на могиле, заросшей зеленой травой».
– Значит, тебе известен приговор «ФЕМЕ»?
– Да, гауграф. Суд «ФЕМЕ» выносит один приговор – смерть. Но я ведь никогда и ничего…
– Разве? – молча засмеялся судья. – А как хранится тайна «ФЕМЕ»?
– За четыреста лет никто не прочитал ни одного дела «ФЕМЕ», и на каждом архивном пакете стоит печать – «Ты не смеешь читать этого, если ты не судья «ФЕМЕ»…
– Ты хотел нарушить тайну «ФЕМЕ», – мертво и решенно сказал гауграф.
– Но я ничего не видел! Я ничего не знаю! Я не могу нарушить тайну!..
– Ты хотел узнать – этого достаточно! – молча всколыхнулись черные капюшоны, и сквозь обессиливающий ужас забилась мысль-воспоминание, что я их знаю.
– Я не хочу умирать! – разорвало меня животным пронзительным воплем, но гауграф протянул руку к кинжалу, и обрушился на меня грохот и пронзительный вой…
…Дверной звонок гремел настырно, въедливо. Тяжелыми ударами ломилось в ребра огорченное страхом и пьянством сердце.
Я приподнялся на постели, но встать не было сил – громадная вздувшаяся голова перевешивала тщедушное скорченное туловище, и весь я был как рисунок человеческого тела в материнской утробе. В огромном пустом шаре гудели вихри алкогольных паров, их горячие смерчики вздымали, словно мусор с тротуара, обрывки вчерашней яви. Мелькали клочья ночного кошмара, чьи-то оскаленные пьяные хари – с кем же я пил вчера? – и вся эта дрянь стремилась разнести на куски тоненькую оболочку моего надутого черепа-шара. Кости в нем были тонюсенькие, как яичная скорлупа, и я знал, что положить ее обратно на подушку надо очень бережно.
Пусть там звонят хоть до второго пришествия – мне следует осторожно улечься, очень тихо, чтобы не разбежались длинные черные трещины по скорлупе моей хрупкой гудящей головы, натянуть одеяло повыше, подтянуть колени к подбородку, вот так, теснее, калачиком свернуться – так ведь и лежит в покое, тепле и темноте многие месяцы зародыш. Я зародыш, бессмысленный пьяный плод рода человеческого. Не трогайте меня – я не знаю ничьих тайн, оставьте меня в покое. Я хочу тепла и темноты. На многие месяцы. Я еще не родился. Я сплю, сплю. В моей огромной пустой голове шумит сладкий ветер беспамятства…
Потом – прошло, наверное, полторы-две вечности – я открыл глаза снова и увидел крысу. Худощавую, черную, в модных продолговатых очках. Я смотрел на нее в щель из-под одеяла – может быть, не заметит, что я уже не сплю. Но она сидела почти рядом – за столом – и в упор смотрела на меня. Я не шевелился, прикидывая потихоньку – может быть, юркнет крыса в дверь, вслед за ночными судьями?
Крыса посидела, пошевелила длинной верхней губой, где у всех нормальных крыс должны быть щетинистые рыжие усы, а у этой ничего не было, и сказала:
– Детки, в школу собирайтесь, петушок пропел давно…
Голос у крысы был тонкий и культурный. Но я на эти штучки не покупаюсь. Лежал не дыша, как убитый.
– Алешка, брось выдрючиваться, вставай, – сказала крыса, и ее культурный голос чуть вибрировал, будто она выдувала слова через обернутую бумагой расческу – есть такой замечательный инструмент у мальчишек.
Как прекрасно было бы мне жить в плаценте постели маленьким, еще не родившимся в этот паскудный мир плодом! Как было бы тепло, темно и покойно во чреве похмельного сна! Но возникла крыса, и надо рождаться в сегодняшний день. И я высунул в мир голову – благо, за промчавшиеся вечности стала она много меньше и тверже.
– Здравствуй, Лева, – сказал я крысе, и этот мой первый новорожденный звук был сиплым и серым, как утро за окном.