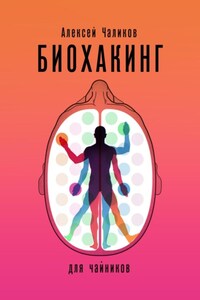Христос перед Пилатом, Пилат умывает руки. VI в. Мозаика южной стены базилики Сант-Аполлинаре Нуово, Равенна, Италия
Symbolon[1] – символ веры, в котором закреплены основные принципы христианского вероисповедания, содержит, помимо «Господа Иисуса Христа» и «Марии Девы», единственное имя собственное, совершенно чуждое – по крайней мере, на первый взгляд, – теологическому контексту. Речь идёт, к тому же, о язычнике – Понтии Пилате: staurothenta te yper emon epi Pontiou Pilatou («распятого за нас при Понтии Пилате»). В «Кредо»[2], которое приняли епископы в 325 году в Никее[3], это имя не упомянуто. В формулу вероисповедания его добавили лишь в 381 году после Константинопольского собора[4], судя по всему, для того, чтобы придать Страстям Христовым исторический характер, зафиксировав это событие в хронологии. Как отмечается, «христианское кредо описывает исторические процессы. Для упоминания Понтия Пилата существуют веские причины, ведь он – далеко не просто какая-то мрачная фигура, волей случая оказавшаяся в тех местах» (Schmitt, p. 253)[5].
То, что христианство – историческая религия и что «таинства», о которых оно повествует, являются также и прежде всего историческими фактами, не вызывает сомнений. Если допустить, что вочеловечение Христа – «историческое событие бесконечности, единство, которое невозможно ни присвоить, ни охватить» (там же), то суд над Иисусом становится одним из ключевых моментов истории человечества, важнейшей точкой пересечения вечности с ходом истории. В таком случае особенно важно понять, как и почему это пересечение преходящего и вечного, божественного и человеческого преобразовалось в krisis, то есть в судебное разбирательство.
Почему, собственно, Пилат? Что-нибудь вроде Tiberiou kaesaros[6] – надписи на отчеканенных при Пилате монетах, которая изначально внушает доверие, хотя бы потому, что именно этим словосочетанием Лука обозначил дату начала проповеди Иоанна (Лк. 3:1[7]) – или, например, выражения sub Tiberio[8] (как у Данте, который произносит голосом Вергилия: «Рождён sub Julio», Ад. 1, 70[9]), бесспорно, гораздо больше соответствовало бы поставленным задачам. И если святые отцы, собравшиеся в Константинополе, предпочли Тиберию Пилата, префекта – или, как называл его Тацит (Анналы. XV, 44[10]) в одном из немногих небиблейских источников, «прокуратора» Иудеи – кесарю, то возможно, что над очевидным хронографическим замыслом одержала верх значимость роли Пилата в евангельских сказаниях. Та доскональность, с которой Иоанн, а также Марк, Лука и Матфей описывают его сомнения, его путаные и переменчивые суждения, буквально передавая порой откровенно загадочные слова, убеждает нас, что евангелисты, наверное, впервые обнаруживают нечто похожее на стремление создать образ со своей неповторимой психологией и речью. Выразительность этого портрета побуждает Лафатера воскликнуть в 1781 году в письме к Гёте: «В нём я вижу всё: небо, землю и ад, добродетель, грех, мудрость, безумие, судьбу и свободу: он – символ всего на свете». Можно сказать, что Пилат – единственный настоящий «персонаж» Евангелия (Ницше описал его в «Антихристианине» следующим образом: «во всём Новом завете только одно лицо – Figur – вызывает уважение к себе»[11]), он был тем человеком, о чувствах которого мы хоть что-то знаем («правитель весьма дивился», Мф. 27:14; Мк. 15:5; «больше убоялся», Ин. 19:8). Нам также известно о его негодовании и испуге (когда, например, он кричит Иисусу, который молча стоит перед ним: «Мне ли не отвечаешь? – emoi ou laleis! – не знаешь ли, что я имею власть распять Тебя и власть имею отпустить Тебя?»[12]), об ироничности (по крайней мере, некоторые видят иронию в его пресловутом вопросе: «Что есть истина?»), о лицемерной педантичности (свидетельством которой можно считать то, что он поднимает вопрос о полномочиях Ирода[13], а затем совершает ритуальное омовение рук и таким образом, как он полагает, очищает себя от крови осуждённого праведника), о раздражении (безапелляционное «что я написал, то написал», брошенное в адрес первосвященников, которые просят его исправить надпись на кресте). Более того, мы даже мимолётно встречались с его женой, которая во время судебного процесса посылает ему сказать, чтобы он не осуждал Иисуса, «потому что я ныне во сне много пострадала за Него» (Мф. 27:19).
На это тяготение образа к реальному персонажу обратят внимание Михаил Булгаков в изумительных историях о Пилате, которые дьявол рассказывает в «Мастере и Маргарите», и Александр Лернет-Холения в грандиозном теологическом фарсе, включённом в роман «Граф Сен-Жермен»[14]. Однако более ранним свидетельством тому – в текстах, которые настойчиво называют «апокрифами» Нового завета (термин, сейчас употребляющийся в значении «ложные, недостоверные», но в действительности означающий «скрытые») – может служить присутствие подлинного цикла о Пилате. В первую очередь – в Евангелии от Никодима (Moraldi, pp. 567–588), где сцена суда над Иисусом представлена гораздо более детально, нежели в синоптических Евангелиях. Когда Иисуса приводят к Пилату, хоругви в руках знаменосцев чудесным образом склоняются перед ним. В судебный процесс вмешиваются двенадцать прозелитов и свидетельствуют против обвинения в том, что Иисус «рождён от прелюбодеяния», утверждая, что Иосиф и Мария жили в браке. В процессе участвует и Никодим, который в свою очередь тоже даёт свидетельские показания в защиту Иисуса. В целом весь судебный процесс с драматизмом преподносится здесь как противостояние между иудейскими обвинителями, которых автор упоминает одного за другим (Анна, Каиафа, Суммий и Датам, Гамалиил, Иуда, Левий, Александр, Нефталим и Иаир), и Пилатом, который постоянно раздражается и практически открыто выступает на стороне Иисуса, в частности потому, что жена его «почитает Бога и ныне иудействует»[15]. Диалог с Иисусом об истине, обрывающийся в синоптических Евангелиях на вопросе Пилата, здесь, как мы увидим позже, продолжается и приобретает совершенно иное значение. Поэтому ещё более неожиданным кажется тот факт, что Пилат уступает настойчивым требованиям иудеев и, поддавшись внезапному страху, приказывает бичевать и распять Христа.
Легенда о Пилате (так называемые Acta или Gesta Pilati[16]) состоит из двух расходящихся сюжетных линий. Прежде всего – это «белая» легенда, удостоверенная подложными донесениями Тиберию, и Paradosis[17], согласно которым Пилат и его жена Прокла якобы осознавали божественную природу Иисуса и лишь по слабости поддались на уговоры иудеев. Эту легенду подтверждает и Тертуллиан, уверяя, что Пилат вынужден был отдать приказ о распятии Иисуса под сильным давлением иудеев (