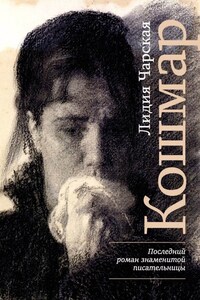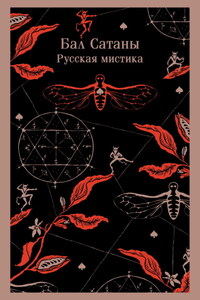…Вокруг красного здания росли одуванчики, много одуванчиков в летнее время. И клевер. Зеленое поле сбегалось у неглубокого, задернутого тиной пруда. Весной здесь меланхолически-страстно выкрикивал хор лягушек. А зимой все покрывалось изысканно-чистой пеленой снега. И огромная сахарно-белая равнина приятно ласкала глаз.
А там, повыше, на железнодорожной насыпи бежали рельсы. Длинный, бесконечно длинный путь от северной столицы туда, в глубину обширной родины, к её дальним окраинам. Разветвлялась на много ветвей; гигантски длинными полосами, устремлялись вдаль. Под скатом, внизу, в выбоине, стояло маленькое красное здание-будка, караулившее полустанок. А на другом таком же здании, у самой платформы, красовалось черным по кирпичному фону четко выведенная цифра названия полустанка «№ 10».
Когда здесь останавливались поезда, товарные и пассажирские (курьерские молнией пролетали мимо), на полустанке показывалась небольшая сутулая фигура с традиционной красной фуражкой на всегда чуть взлохмаченной голове. Водянисто-голубые мутные глаза алкоголика прежде всего пристально вглядывались в пыхтящую, крикливую и наиболее шумную часть поезда, а руки, вооруженные флажком, руки пьяницы, неизбежно дрожали. Пока поезд стоял, и машинисты запасались всем необходимым, красная фуражка маячила по платформе, равнодушно оглядывая теми же мутными глазами алкоголика высыпавших промяться из вагонов пассажиров.
Начальника полустанка под № 10 Кирилла Федоровича Груздева перевели сюда лет пятнадцать тому назад с большой узловой станции за пьянство. И вот уже пятнадцать лет жил он здесь, вдовец, с дочерью и рябой прислугой Агафьей, продолжая келейно напиваться по ночам от поезда до поезда, в длиннейший промежуток железнодорожного затишья, и с чисто машинной пунктуальностью выходя вместе со сторожем Авиловым встречать каждый поезд между двумя стаканами водки.
Ближайший поселок, где можно было покупать вино и простые крестьянские продукты, находится от полустанка № 10 в 3-х верстах расстояния. Кирилл Федорович два раза в неделю аккуратно отправлял туда за тем и другим рябую Агафью. В летнее время ее частенько сопровождала туда маленькая Нина Груздева.
Первым сознательным впечатлением, прочно улегшимся в памяти Нины, были пушистые, нежные одуванчики, росшие в таком изобилии вокруг их красного дома-будки. И еще милое бледное лицо молодой женщины, её матери, угасшей очень рано от чахотки.
Мать исчезла. Одуванчики остались. И алые и белые цветы кашки тоже.
Рябая Агафья, мутные глаза папочки и поезда, поезда, поезда без конца и счета, – все это скользило мимо. А одуванчики и кашка водворились прочно и навсегда, как скрытые сокровища в недрах души Нины. Папочку было жалко. Жалко до слез в часы его запоя, в часы его тоскливого оцепенения. К Агафье не было никаких чувств, уж слишком примитивно глупа и груба была Агафья. Но одуванчики, кашка, широкая равнина, зеленой, мутной, задернутый тиной пруд с его весенними лягушечьими концертами, – все это было дорого до боли, все жило в маленькой душе, истомленной одиночеством. Было еще, правда, в далеком, розовое пятно, луч недолгого солнца, блик яркой краски на сером фоне, туманное воспоминание о матери, о чьих то нежных руках, о чьих то задумчиво голубовато-серых глазах, но были ли то в действительности те глаза, и руки, и ласки, – Нина путалась, не могла дать себе отчета, не знала. Росла сама как цветок среди одуванчиков и кашки, маленькая, невзрачная, с большими угрюмыми недетскими глазами, с упорным ртом не знающем ребяческого смеха, росла среди одуванчиков, кашки, снега и поездов, между алкоголиком отцом и тупой прислугой. Потом, когда подросла, стала посещать за три версты церковно-приходскую школу… Каждый день приезжал из села Клушина подговоренный крестьянин за Ниной и увозил её на уроки, где у сельской учительши она проходила школьную премудрость вместе с крестьянскими детьми. А после уроков доставлял обратно. Зато получал едва ли не половину из скудного Груздевского жалованья.
– Учись, Ниночка, учись, девочка, умницей вырастешь, папке облегчишь его горькую долю. Разнесчастный ведь он, твой папка, разгорький он прегорький, твой папка, пьяница, – с отуманенной винными парами головой говорил частенько дочери Груздев, дыша ей в лицо водочным перегаром и запахом дешевых папирос.
И девочка училась, как могла, как умела. А потом накинулась на книги. Читала жадно. Читала все, что было в скудной сельской библиотеке и у учительницы Анны Семеновны. И Пушкина, и Гоголя, и Лермонтова в разрозненных томах, скупленных на дешевке у букиниста. Читала с восторгом, захлебываясь. Любила Владимира Ленского, юного поэта, погибшего от руки Онегина… Любила коварного Демона и Печорина, непонятного, насмешливого… Но больше всех Ленского, больше мертвого чем живого, потому что напоминал белый одуванчик и чистоту зимних снегов равнины, её первые и лучшие впечатления.
– Пожалуйте, был сигнал, ваше высокородие, № 17 встречать, – расслышал как сквозь сон Кирилл Федорович Груздев, полулежавший у стола в старом с прорванной во многих местах клеенкой кресле. На столе стояла бутылка с отбитым горлышком, распространяющая вокруг едкий запах спирта. Лежал обглодок соленого огурца и недоеденная корка хлеба.
– М-м… 17, говоришь? Это хорошо, что семнадцатый, Авилов, – промычал себе под нос начальник, – это очень хорошо, что семнадцатый.
– Да хорошо, либо нет там, а пожалуйте. Потому как пути более нет. Не приведи Господь заносы какие. И и… Боже ты мой, какая метель!
– Метель, говоришь?
– Неушто не видали и не слыхали?
О нет, он слышал их, эти голоса демонов за обледеневшим оконцем. Но разве же это была метель? В его помраченном от обильного возлияния мозгу фантастические представления вытеснили реальные. Казалось, что не метель, не бушующая стихия, а полчища злой силы стучались к нему в окно и смущали его покой, убеждая его в чем то, и предостерегая, и угрожая в одно и то же время.
– Так вот оно что, метель… Метель и заносы… Поезд не пойдет дальше, стало быть?
Вдруг резким неожиданным среди тишины звуком протрещал звонок телефона. С испугом, косясь на неплотно прикрытую дверь смежной с его комнатой горенки Нины, спавшей сном праведницы сейчас под утро, Груздев, чуть пошатываясь, подошел к аппарату.
– Алло. Я слушаю. С полустанка № 10, – прикрывая рот рукой, опять таки чтобы не разбудить дочери, откликнулся он не совсем твердым голосом. – Что? Заносы? Да… Стоит в поле… Слышу. И 17-ый застрянет по всей вероятности… Через десять минут дам знать…
Конец ознакомительного фрагмента. Полный текст доступен на www.litres.ru