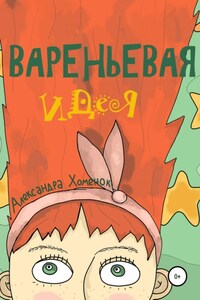Прошлой ночью Вере приснилось, как из ее рта выползает огромный паук. Не размером с ладонь или тарелку, а размером с Веру. Будто он прятал свои длинные лапы вдоль ее рук и ног, а свое черное волосатое тело в ее брюшине. Он выполз легко, во всяком случае во сне это не доставило никакого дискомфорта. Ей это даже не показалось странным, и когда паук, выбравшись на волю, побежал в темную ноябрьскую ночь, она побежала за ним.
И во сне эта непроглядная ночь казалась теплой. Будто воздух ласкал.
После пробуждения сон остался в ощущениях. Несмотря на ранний подъем, Вера испытывала воодушевление и свободу – самые дефицитные для нее чувства. Стараясь не разбудить мужа, который развалив белые пухлые ноги и задрав голову, громко сопел, она вышла из комнаты. Неслышно позавтракала, неслышно собралась. И уже полностью одетая, стоя у зеркала и, забирая под платок черные кудрявые волосы, она вспомнила сон. Потянулось было, чтобы перекреститься, но задумавшись о чем-то, опустила руку, взяла ключи с крючка и вышла из дома.
Утренняя служба, на которую она ходила каждый день, а по воскресеньям вместе с мужем, начиналась в восемь. Дорога до храма проходила по ночной темноте, сквозь сырой, колючий от измороси воздух, мимо загорающихся кухонным светом многоэтажек и маленьких деревянных домиков под снос. В которых, судя по горящим вечерами окнам, еще жили, а днем они казались совсем заброшенными.
Но сегодня в том месте, где во сне она упустила паука из виду, вдруг появился новый дом. Сначала непривычным светлым пятном среди темноты, но, когда Вера поравнялась с ним, оказалось, что дом такой же старый, как остальные. Просто спрятался за ограждением еще до того, как она переехала к мужу. Покосившийся на один бок, еще меньше соседских (на фасадной стороне только одно узкое окошко); во дворе ни деревца, ни куста. Пустырь. И он, как пришелец среди темноты, светится облупившейся светлой краской. И раз забор сняли, значит, сегодня-завтра и домик снесут.
От подобного Вере всегда становилась грустно. Она делила мир не на живое и неживое, а выделяла в нем беззащитное и мучалась от жалости к старым вещам и заброшенным домам. Это была та жалость, за которую она должна была испытывать стыд. Муж этого не одобрял, считал отголоском язычества, тыкал пальцам в строки нужных книг, где об этом говорилось особенно резко, где особенно ярко подчеркивалась его правота.
Его правота окружала, оцепляла все ее существование. «Будешь жить с Виктором, как у Христа за пазухой», сказал отец Веры после помолвки. Ему казалось, что его самый большой страх – разглядеть в Вере материнское проклятье – исчезнет, как только дочь перейдет в строгую, верующую семью. Где свекор священник счел божьим испытанием спасти пропащую душу от пропасти и будучи уверенным, что старший сын справится, благословил брак.
«У Христа за пазухой» жилось тревожно и безрадостно. Вера быстро разглядела главную особенность Виктора – тыкать в строки нужных книг и сужать, кромсать мир под лекало своей правоты. Это делало его никудышным преподавателем – любая философская догма у него сводилась к Богу, а мужем еще более никудышным. С ним мир Веры так же сузился и свелся к одному – поиску одобрения.
Особенно тяжело было прятать себя. В первое время Вера часто смеялась над тем, над чем «благочестивая женщина не улыбнулась бы», прощала людям то, за что «они гореть должны», и плакала над тем, что «будь поумнее, презирала бы».
Но сейчас, замерев напротив темного, пыльного окна, вглядываясь в него с презираемым мужем любопытством, Вера стыда не испытывала. То чувство, которое взращивалось в ней в избытке, отступило, дожидаясь начала службы. Там, в духоте и причитаниях, следующих за неразборчивым эхом, она вновь проникнется всеобщим покаянием, которое сделает ее стыд тяжелым, но возможным для прощения.
И сегодня было так же. На службе, крестясь и кланяясь в нужное время, она мысленно вымаливала прощение за сон, и за те неосознанные мысли и желания, которые его вызвали, за жалость к вещи, которую она приравняла к страданиям человеческой души. И особенно горячо Вера молилась за то, чтобы не повторить судьбу матери. Хотя смутные воспоминания о ее образе, иногда мелькающие перед пробуждением, заставляли ее улыбаться во сне.
Домой Вера шла по другой стороне улицы, стараясь не оборачиваться на переулок, где стоял домик. Ей казалось, что он просит у нее помощи. Ей казалось, что он выпрашивает сострадание, стыд за которое оно только что отмолила. Изменив своей привычке замедлять шаг, приближаясь к дому, Вера опустила голову и пошла быстрее.
Спустя год изучения мужниной науки жить она выучила все его привычки. И сегодня, вернувшись домой, столкнулась с проявлением самой изводящей. Расхаживая широкими шагами по квартире, держа на вытянутой руке книгу, Виктор готовился к лекции.
В том, как он это делал, как менялся его голос, если она оказывалась рядом, была такая смесь желаемого превосходства и очевидной неуверенности, что Веру выворачивала от каждой секунды, наполненной этим. От каждой секунды, озвученной его голосом.
Кивнув вошедшей жене, Виктор откашлялся и заговорил вновь уже громче и выше. Вера никогда не видела, как он проводит занятия, но не сомневалась – он не был в числе любимых преподавателей у студентов.
– Как прошла служба? – спросил он, закрыв книгу и усаживаясь в свое любимое кожаное кресло. Это было исключительно его кресло, Вера никогда не садилась в него. Ей хватало одного вида пухлого, чуть розоватого тела на фоне красной кожаной обивки. Ей хватало одного представления о влажности этой обивки после его потной кожи.
– Как всегда проходит, так и сегодня прошла. Ты бы тоже мог сходить, раз тебе сегодня после обеда только.
Виктор поерзал в кресле, издав неприятный звук сначала телом, а потом горлом – то ли снова откашлялся, то ли усмехнулся:
– Мне сегодня самому службу вести, – он постучал кончиками пальцев по закрытой книге, – в церкви слово Божье и без меня звучит.
«Так я же не выступать тебя зову!», подумала Вера про себя. Если бы муж знал, что она думает о нем там, в самом важном отделе своей души, куда не проникал его запах и голос, он бы решил, что не справился. Что зря тыкал пальцами в книги и зря возвышал голос, зря ставил свечки за здравие рабы божьей. Все равно бесы вслед за матерью ее утащат.
Разговоры о «проклятой матери» были отдельным, самым любимым им видом домашней проповеди. Он говорил об опасности, в которой находится Вера, ведь по запаху общей крови бесы придут и за ней. Снижая голос до яростного шепота, описывал чернь, которая лилась изо рта прихожанки во время причастия. Водил рукой в воздухе, будто видел эту чернь и в их квартире, будто верил, что и жена полна ей. Складывал пальцы в троеперстие и тряс рукой перед лицом Веры, и рассказывал, как другая прихожанка укусила батюшку за пальцы, когда он пытался благословить ее.