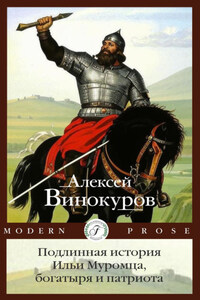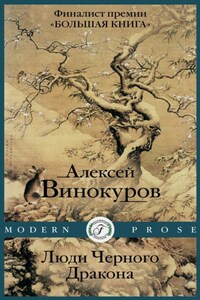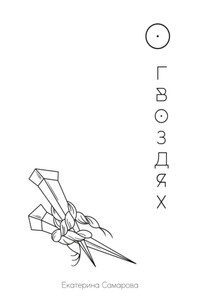К тридцати годам Илья-сидень не обзавелся ни домом, ни семьей, ни женой с детишками. Были у него только старики-родители, Ефросинья и Иван, Тимофеев сын, по прозвищу Бык. Целыми днями Илья лежал на печи и глядел в грязный, закопченный потолок. Изба топилась по-черному, и на потолке можно было рисовать узоры – но охотников рисовать что-то не находилось.
Мать не верила в болезнь сына и бранила Илью на чем свет стоит – пыталась пробудить в нем совесть.
– Все люди, как люди, один он лежит на печи. Пошел бы, сделал хоть чего, родителям помог. А то ишь, лежит, боров!
Илья отмалчивался, проглатывал несправедливость.
Особенно тяжко приходилось во время сева и жатвы. Отец с матерью приходили уставшие, еле добредали до полатей и сразу валились спать. Но, и засыпая, мать в полусне бранила Илью:
– Не хочет ничего делать, боров жирный! Рожала, думала, помощник будет, кормилец, а он лежит. Ни рук, ни ног – какая теперь от тебя польза?
Илья молчал, ничего не говорил. Молчал и отец. Когда узнал, что сын его болен, горе придавило его, стал молчалив, ни с кем не разговаривал. Много разных бабок водил к Илье, из ближних сел и из дальних. Бабки удивлялись здоровому виду Ильи и тому, что он при таком виде – калека, шептали над ним молитвы, брызгали водой, плевали в углы.
– Заплевали всю избу, а толку нет, – ворчала мать, провожая бабок, уносящих в платках кур и яйца.
На тридцатилетие отец справил Илье новую красную рубашку. Илья сидел на печи в рубашке, причесанный, красивый, мать кормила его с ложечки.
– Эх, найти бы ему девку хорошую, чтобы обихаживала его, – говорила мать, подбирая краюхой остатки щей, – мы-то ведь с тобой, старый, скоро умрем. Да только кому он такой нужен?
Весной Ивана придавило бревном. Хоронили его всем селом, даже Илью вынесли посмотреть в последний раз на отца. Лежал он в просторной деревянной домовине, строгий, торжественный, будто говорил оставшимся: «Ужо вам! У меня не забалуешь!» Чудилось Илье, что сквозь прикрытые веки глядел он в небо – что там, как отнеслись к его смерти, правильно ли поняли? С неба не было никаких знаков, только тучка набежала, и дождь заморосил.
– В дождь хоронить – добрая примета, – тихо сказал бондарь Егорий старосте. Тот кивнул в ответ.
Илья сидел как каменный, только капли текли по лицу, и невозможно было разобрать – то ли это слезы, то ли дождь лицо намочил.
Поп еще махнул кадилом, забормотал молитву, и гроб с телом стали опускать в землю…
Мать не выдержала горя, слегла. Еле хватало сил встать с постели, обиходить Илью, о себе уже не думала. Крепкое когда-то хозяйство пришло в упадок. В хлеву визжали голодные свинята, кричала недоеная корова – уж и не знали, что делать с животиной. Однако добрые люди не оставили сирот своим попечением: кто куренка утащит, кто жердь из забора вынет, кто поросенка незаметно уволочет. Так потихоньку вопрос со скотиной и решился.
Несколько раз заходил поп, отец Василий, смотрел на разорение, вздыхал, вел беседы с матерью. С Ильей не разговаривал, только осенял крестом и руку давал целовать.
Ночью Илья слышал, как мать плакала. С горящим лицом он лежал на печи, не в силах вымолвить слова, в отчаянии глядел на белеющие в темноте руки. В голове крутилось глупое присловье: «Эх вы, ноги мои нехожалые, эх вы, руки мои – недержалые!»
К осени матери полегчало, стала ходить – сначала по избе, потом по двору, делать кой-какую работу. Живность, которую не стащили, вся перемерла, выжил только одичавший пес Мурза, который в соответствии с татарским своим именем приспособился в виде возмездия таскать кур из соседних дворов.
Чтобы прокормить себя и сына, мать пошла работать на монастырь, стоявший рядом с селом. На день она оставляла рядом с Ильей миску каши и кувшин воды. Илья подползал к миске и ел с нее, захватывая кашу губами. Так же пил и из кувшина.
Как-то он сделал неудачное движение, кувшин не удержался и полетел с печи на пол, Илья, испугавшись, кинулся за ним. Уже падая, понял, что летит лицом прямо в пол. Из последних сил рванулся и внезапно почувствовал острую боль – упал на руку.
Мать нашла его на полу. Рядом с ним валялся пустой кувшин, вода из него растеклась лужей, замочила штаны. Мать с помощью соседей взвалила Илью обратно на печь, ругая на чем свет стоит, но он был как-то особенно тих и задумчив и даже, показалось ей, на лице его появился какой-то радостный свет.
Ночью он не спал и думал о том, как же рука его могла оказаться между головой и полом, и ничего другого не смог придумать, кроме как то, что он сам сумел двинуть ею. При мысли об этом горячая волна залила его лицо, и весь он исполнился такой бурной, бешеной радости, что сам испугался. Всю оставшуюся ночь он молился Богу, чего не случалось с ним, наверное, уже лет десять. Не то чтобы он снова уверовал, а просто хотелось ему с кем-то поделиться своей радостью.
На следующий день он с нетерпением ждал, пока мать уйдет в монастырь. Потом лег на спине прямо, вытянулся, зажмурился. Вдохнул воздуху побольше и приказал руке «Подымись!»
Рука лежала, как мертвая.
– Подымись! – повторил Илья. В голосе его была угроза.
Рука опять лежала.
– Подымись! – в полный голос крикнул Илья. – А ну, подымись! Велю!
Через полчаса он был весь в поту, а рука так и лежала – не шевелясь.
– Ничего, – прошептал Илья, морщась. – А мы другую попробуем…
Пришедшая мать застала его, как он, закатив глаза, бормотал вне себя: «Подымись! Подымись!» Она окликнула его – он не ответил. Толкнула его – лежал, не шевелясь, и только шептал в беспамятстве: «Подымись!» С трудом отлили его водой, но и после этого до конца в себя он не пришел, лежал лицом в стену, как бы повредившись в уме.
Мать испугалась.
– Ой, господи, это что же? Раньше только не двигался, а теперь и не слышит, и не говорит…
Позвала знахарку. Знахарка глядела на него, мяла щеки, дула в уши.
– Голос есть, – сказала она. – И ухи слышит. Нет никакой болезни. Корми лучше.
– Да уж я кормлю-кормлю, куда уж лучше-то, – посетовала мать.
– Жирнее корми, гуще, – строго велела знахарка, и ушла прочь.
Мать стала ходить в лес за грибами, жарить их. Но Илья ел вяло, и все как будто о чем-то думал.
– Все думает, и думает, и слова не скажет, – жаловалась мать соседкам. – А чего ему думать? Был бы он князь или вот хоть монах. А то обыкновенный хрестьянин.
– Тоскует, видно, – сочувствовали соседки, и бежали домой – кормить скотину.
– А мне и кормить некого, – говорила мать со вздохом, – вся скотина перемерла, один только Мурза и остался.
«Что же, – думал Илья, – неужто я вовсе не хозяин своим рукам? Без меня она двинуться может, а со мной – не хочет? Как такое случилось?»
Через неделю он окликнул из окна пробегавшего мимо мальчишку и попросил принести ему веревок и чурбачок потяжелее. Мальчишка принес. В дом он вошел, пугливо озираясь и обнюхиваясь – лежащий на печи здоровый калека был ему страшен. Но Илья говорил с ним ласково, угостил грибами и кашей, и тот осмелел.