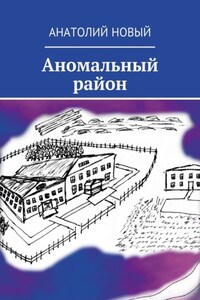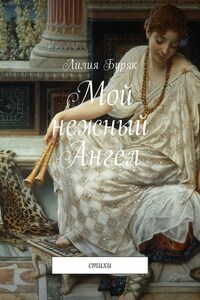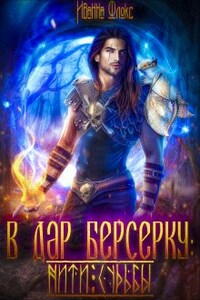Стояла ночь тиха,
А в ней огни мерцали.
Спал город без греха,
Все люди отдыхали.
И в час ночной
Одна из здешних женщин
Комочек маленький, ручной,
Иль чуточку поменьше,
На радость миру родила.
Вот так обыденно вершатся
В миру великие дела.
И будут умножаться.
Изнемождённая борьбой,
И ничего уж не страшится,
Увидев, как её родной
Ребёнок стал уже мочиться,
Едва успев на свет явиться.
Вот в этом малом тельце
Обосновался непростой
Небесных, спелых трав настой —
Нешуточное дельце.
Вдруг крик взрезает тишину
Надрывный, хрипловатый —
Небрежно поднимает в вышину
Ребёнка доктор грубоватый.
Засуетились все кругом,
Вот медсестра бежит за ватой,
И доктор ей кричит: «Бегом!» —
Малыш «сходил» аляповато.
Ему ведь было страшновато,
Когда стал бить, – и зря причём, —
По попе доктор глуповатый.
И разбери: за что, почём?
Мужик в халате всгорячён,
На всех кричит, мальца хватает,
Быть может, он так вскипячён,
Что не всего ему хватает,
И потому детей пытает?
Блеснул сознанья огонёк
В столь крохотной головке,
Взгляд осторожный недалёк,
И силится понять уловки
Невиданного мира.
Мрак, суета, то резкий свет —
Тут не божественная лира,
А хаоса невнятный бред,
Разгар чумного пира.
Во мраке сём глаза таращит,
И мысли бродят наугад:
Куда попал, и что всё значит,
Быть может, это сущий ад?
Чертей торжественный парад,
А он – объект для издевательств.
Как душно, дымно, тяжело
От этих жутких надругательств.
Обиды много намело
Лицо врачебных обязательств,
И он давай сильней кричать
Беспомощно на помощь звать.
И тут его взялись мотать,
Смирительной рубашкой пеленать,
И кляпом рот заткнули,
Как буйному больному дав
Эрзац резиновой пилюли.
«Теперь понятно, дело в чём,
Попал я в сумасшедший дом.
Вернусь назад, не буду просыпаться», —
Уснул невесело на том.
Проснулся он при свете дня,
Обрадовался было
И, вновь свободным себя мня,
Он улыбнулся свету мило,
В нём всё приветственно ожило.
Как захотелось сладко потянуться
И широко свободою вздохнуть,
Но вот беда – членики не гнуться,
И полной грудью не вдохнуть.
Резина намозолила язык
И не даёт произнести ни звука,
Лишь слышен трогательный мык,
Ну, что за пытошная мука.
Глупа врачебная наука.
Ну, кто же спит во рту с резиной
Со вкусом грязного бензина,
Связав себе потуже руки,
Чтобы не шастали от скуки.
Вот так безгрешный мир седой
Встречает грешного ребёнка
И моет добела водой
Его нечистые пелёнки.
Наверно всем куда родней
Зимою тёплые дублёнки.
Малыш давно уже нафурил
И мёрз от холода клеёнки.
Он поднатужил все силёнки
И понимал, что бедокурил,
Пустышку сплюнул, – комнатёнка,
Понятно, что не от котёнка,
Дрожала от пронзительного крика,
Прервалась тишь сплошного шика.
Сестра с диванчика вскочила,
Ребёнка на руки взяла
И поцелуем лоб смочила,
Она красивая была.
Под чувством нежной женской ласки
Открылся взгляд чудесных глазок
Из добрых, добрых дивных сказок.
На ней не видно чёрствой маски.
В неё смотрел он без опаски,
Взгляд очень глубоко входил,
Ища таинственной подсказки.
В себе он что-то пробудил.
Глядел на розовые краски,
Что заиграли на лице
У девушки красивой словно в пляске.
Так очень долго любовался
С счастливым замиранием внутри
И с наслажденьем прижимался
К красивой пухленькой груди.
И мальчуган внезапно осознал
В себе какое-то волненье:
«Сей мир ещё не весь познал,
Повременю я с избавленьем».
Он понял, что покуда будет жить,
То будет помнить о рассвете
И будет пламенно любить
Всех Женщин, что живут на свете.
Вот он у женщины другой
И тоже очень доброй,
Он здесь почувствовал покой,
Как в жизни той – утробной.
Тепло, надёжно и легко,
Уже знакома эта дама,
И вкусно пахнет молоко,
Так вот она какая – мама.
Наелся вдоволь, улыбнулся,
Потом тихонечко запел,
Чуть заикнулся, отрыгнулся
И про запас ещё поел.
Играя маминым сосочком,
Уснул и засопел носочком.
Пример истории широк,
Как люд с рожденьем обращался,
Он был достаточно жесток,
По всякому с младенцем упражнялся.
Был в Спарте воинский народ,
Детей там хилых не дразнили:
Для выведения пород
Младенца хилого казнили.
Откуда ведомо тупице,
Уж лучше бы ему обпиться,
Что в каждом хрупком тельце
Суворов мог родиться —
Герой в военном деле.
Тибет духовностью известный,
И правят там большие ламы,
Они закон издали местный,
Чтобы детей своих все мамы
Без лишней совестливой драмы
Рекой холодною пытали.
Как немцы в сорок третьем
Зимою в прорубь окунали
Порфирия благого в сетях.
Тибетцы, видимо, гадали,
Порфирия искали в детях —
Другие так и умирали
От воспаленья лёгких.
О, да, там люди не из мягких,
Зато сердца их – лёд холодный,
А ум – недвижима скала.
Не мог понять народ бесплодный:
Младенцу родина дана
Природой благосклонной,
Раз он больной и хворый,
Так пусть же край суровый
В душе воспитывает новый
Дух закалённый и здоровый.
Так ведь сначала надо помогать
Искусно и молебно,
А не в холодный лёд бросать,
Как будто то целебно.
Зачем о прочности пытать
Ещё некрепкое здоровье?
Ведь и у тёлочки ещё
Пока что вымя не коровье.
Не зная Божьего завета,
Народы встали пред ответом.
Приняв жестокостью крещенье,
Народ и Спарты, и Тибета
Не избежал порабощенья.
То не было Господне мщенье,
А лишь желанно угощенье.
И если кто Христа не знает:
Что сеет, то и пожинает.
Вандалы существуют и сейчас,
Детей крадут и продают,
Придёт и их ответный час,
Закон пусть знают Божий.
Кто на младенца руку занесёт,
Их душу в клочья разнесёт.
То не угроза от иконы —
Напоминание закона.