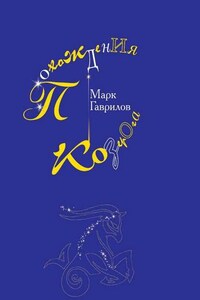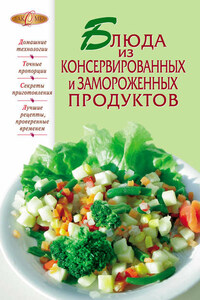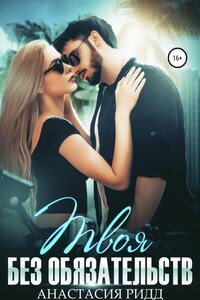Словари и энциклопедии на все лады расхваливают и охаивают характеры тех, кто родился под знаком зодиака Козерог. Если им верить, то портрет мой, в «козероговском» ракурсе, может получиться, прямо скажем, неприглядным. И скареден, и подавляет окружающих, и непомерно тщеславен, и, вообще, по натуре – диктатор. Но эти записки не столько о себе, любимом, а главным образом о тех, кто повстречался мне на жизненном пути, длиною в 80 лет. А каков получился я – судить не мне.
Как заманчиво и страшно начинать рассказ о себе, о своей жизни среди других людей. Но рано или поздно, к этому нужно приступить. Приступаю.
В новогоднюю ночь пограничник Иван Гаврилов нес на руках с заставы через заснеженное поле нас двоих – жену Аню и меня – сына. Впрочем, явился я на свет белый позже, в 6 часов утра 1-го января 1936 года. И был младенец, надо полагать, под хмельком, ибо молодая мамаша на новогоднем балу на погранзаставе пригубила шампанского.
Теперь, видимо, нужно пояснить, как сложилась эта, не совсем обычная для того времени, пара. Он: Ванька-сорванец, в недавнем прошлом гроза московской Марьиной Рощи, а ныне большевик-пограничник, русопет. Она – Хана, единственная дочь-красавица из большого патриархального еврейского семейства, обитающего в приграничном местечке белорусского городка Койданово. Хана, ставшая Анной, выйдя за русского Ивана.
Гроза Марьиной рощи в роли Ленского
Иван с детства слыл отчаянным, безрассудным огольцом. Ещё в сопливом возрасте, на спор, полез на высоченное дерево, сорвался, весь ободрался, и самое главное, сучком распорол кончик носа напополам. В таком виде он убоялся появиться на глаза родителей, уверен был – выпорют. А насилия над собой он не терпел. Однажды его, совсем кроху, за какую-то провинность поставили в угол, так он сбежал из дома. Еле нашли на краю Москвы.
Видно, от наследственности никуда не денешься: я, его сын, тоже в детстве от обиды на мать (назвала вруном, когда я говорил правду) сбежал из дома. Затем такой же побег (я шлёпнул его за воровские штучки) совершил мой младший братишка – Валерка.
Итак, Ванька с разорванным носом спрятался у любимой бабки-татарки. Та была ворожея и знахарка. Обвязала несчастный нос какими-то травками, а на шею повесила ожерелье из головок чеснока, и велела не снимать, пока рана не затянется. Ваня носил это ожерелье долго-долго, видно, понравился ему сей лекарский талисман, а родителям бабка запретила его снимать. Травма не изуродовала симпатичного лица, но отметинка на носу осталась на всю жизнь, если приглядеться, то можно ехидно сказать, что Иван стал чуточку смахивать на муравьеда. Роста он был небольшого, но весь подобранный, прямо-таки изящный. Не было той драки в округе, в которой не участвовал Ванька Гаврилов. Но – сила есть, ума не надо – это не про него, умён был не по летам. Вообще, природа не поскупилась, талантами его не обделила. Был он непревзойдённый боец «на кулачках», отменно рисовал, обладал прекрасным голосом и абсолютным слухом, пел замечательно. Подростком устроился в московский рыбный порт грузчиком. Я, по наивности, как-то обронил при отце фразу о нашем пролетарском происхождении, мол, «мои предки не стеснялись ходить в драных, рабочих робах и стоптанных башмаках». На что мой батя, усмехнувшись, отреагировал совершенно неожиданно:
– Я был грузчиком, а не оборванцем. В рабочей одежде, хоть и вполне приличной, мы на людях не появлялись. После погрузки-выгрузки принимали душ. На улицу выходили в костюмахтройках, некоторые, и я в их числе, ещё и с тросточками. Мы очень модничали тогда, ведь зарабатывали грузчики весьма основательно. Нас считали рабочей аристократией.
Буйный, заводной характер давал себя знать. Особенно Иван любил показывать свою недюжинную силу и делать, благодаря ей, что-нибудь на спор. Так, однажды, взвалил себе на плечи мешок с сахаром (6 пудов), а поверх него пригласил залезть спорщика-оппонента, и с таким вот грузом отмерил сто шагов.
Очередной спор определил его собственную судьбу. Фланировали они как-то всей бригадой после смены по Москве. Проходили мимо Консерватории. И тут один из коллег- грузчиков возьми и брякни:
– Ванька, вон объявление висит: завтра начинается приём в Консерваторию. Слабо туда поступить?
А надо сказать, что Ваня уже слыл в своей среде артистом, он вместе с коллективом самодеятельности объездил всё Подмосковье, бывал даже и в других губерниях. Пользовался, как певец, большим успехом, особенно у женской части аудитории. Иван завёлся:
– Спорим, поступлю!
Ударили по рукам. На дюжину пива. И вот, он со своим дружком, самодеятельным композитором отправился завоёвывать Консерваторию. Вообще, отец, на моей памяти, был не словоохотлив и не любил рассказывать о прошлых своих похождениях. Но этот эпизод вспоминал не раз, и не без удовольствия, хотя и со свойственной ему самоиронией.
– Пришли мы с моим приятелем Витькой в Консерваторию, там полно народу и в зале, и в коридорах. Экзаменуют по вокалу. Вызывают по одному на сцену и под аккомпанемент фортепьяно претенденты поют арии классического репертуара. Там же, за длинным столом сидят члены приёмной комиссии, посерёдке клюёт носом старичок-профессор, председатель этой комиссии. Видно, осточертели ему эти горлопаны. В сон его клонит. Всё происходит довольно быстро, иному и пары фраз не дают спеть: «Спасибо. Будьте здоровы. Вам сообщат». Наконец, вызывают меня. «Что будете петь?» Отвечаю: «Махараджу». А это песенка того самого приятеля- композитора Витьки, она давала необычайную возможность показать и диапазон голоса, и умение им владеть. В комиссии немножко удивились, но разрешили петь, и даже аккомпанировать – автору песенки.
Стал я исполнять этого «Махараджу», а там такие высокие ноты получаются, что дух захватывает. Гляжу, старичок- профессор проснулся и во все глаза на меня глядит. Я закончил, а он: «Погодите, молодой человек! А «Махараджа» ваш ничего себе. Только позвольте вас ещё послушать…». Вылез из-за стола, турнул моего дружка-композитора из-за фортепьяно, сел сам и, давай, меня гонять по гаммам. Чую: загоняет в такие верха, какие мне брать и не приходилось. Раз я дал «петуха». Он снова погнал вверх. Ещё «петух»…Такого позора у меня никогда не приключалось. А старичок-профессор, мне на удивление, радрадёшенек, ручки потирает – «Благодарю вас, молодой человек», – говорит, вроде удовлетворился тем, что до провала довёл. Так мы и покинули экзамен.
Я признал поражение: мол, провалил вредный профессор. Зато пиво, за счёт проигравшего, весело распили всей бригадой. Потом я отправился в длинную гастрольную поездку. И, можно сказать, полностью компенсировал неудачу в Консерватории успехом у зрителей глубинки. Вернулся поздней осенью, а сёстры суют мне телеграмму – из Консерватории: «В случае непосещения занятий будете отчислены». Приняли меня на вокальное отделение, оказывается. А профессор, я к нему на курс и попал, говорил что ему стало любопытно, насколько далеко простирается мой весьма высокий голос.