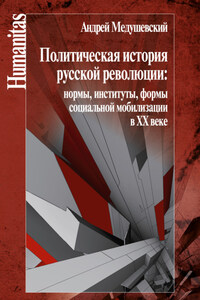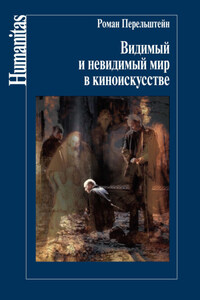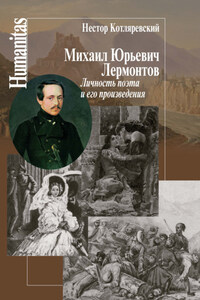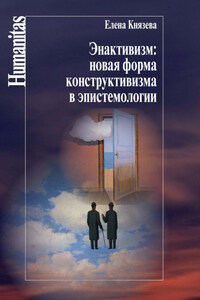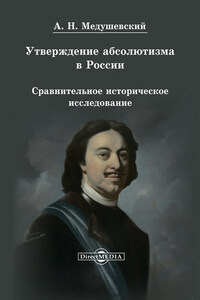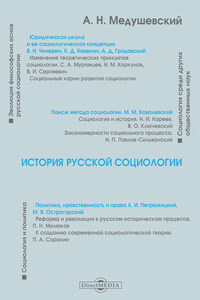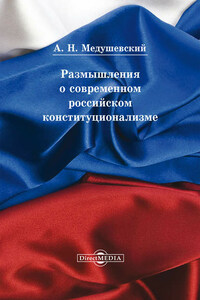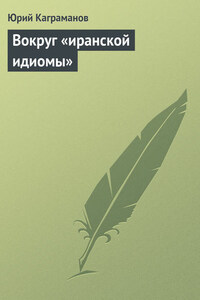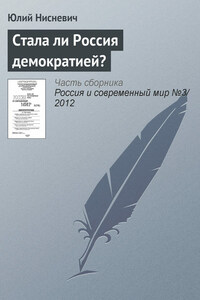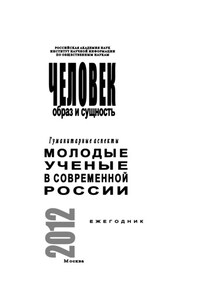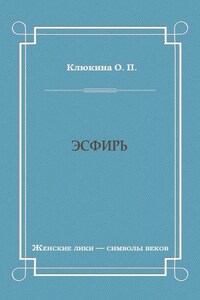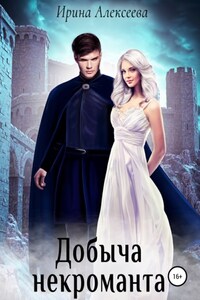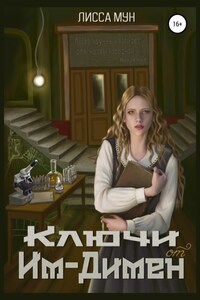Введение. Феноменология революции: проблемы, методы, источники исследования
Столетие русской революции 1917 г. есть фундаментальный, но не вполне оцененный обществом факт российского национального самосознания, формирования культурной, гражданской и правовой идентичности. Дискуссии по крупнейшим революциям прошлого – английской, американской, Французской, германской, приуроченные к их юбилеям, выполняли роль поиска национального консенсуса в данных странах. Ничего подобного нет в России: во-первых, отсутствует национальный консенсус – социологические опросы показывают сохраняющийся раскол общества (практически пополам) в отношении революции, большевизма, сталинизма и итогов советского эксперимента; во-вторых, не преодолено наследие идеологических стереотипов прошлого, возрождающихся в различных новых модификациях; в-третьих, нет единства в академическом сообществе даже по вопросу о подходах к изучению данного феномена. До настоящего времени в литературе действует система мифов, доставшихся от эпохи революции или сформулированных в последующее время, общая природа которых состоит в подмене доказательных научных выводов метафизическими (идеологизированными) конструкциями.
Весь ХХ век наполнен полемикой сторонников и противников русской революции, а главная тема – идея социальной справедливости, определявшая (в ее коммунистическом понимании) содержание этики, институтов и политики государства. Революция породила социальный миф – т. е. не подлинную, а изобретенную историю происхождения государства, основанную не на знании, но на вере. Мифологическое сознание в отличие от конструкций, выработанных эмпирическим мышлением и критическим разумом, выражает не знание, но систему символов, принимаемых на веру. Миф как символическое явление, говорит Э. Кассирер, становится мистерией: «его подлинное значение и его подлинная глубина заключается не в том, что он выражает своими собственными фигурами, а в том, что он скрывает». Мифологическое сознание, подобно шифрованному письму, «понятно только тому, кто обладает необходимым для этого ключом, т. е. тому, для кого особые содержательные элементы этого сознания в сущности не более, чем конвенциональные знаки для “иного”, в них самих не содержащегося»[1]. Отсюда необходимость толкования мифов – выявления их скрытого смыслового содержания, будь то теоретического или морального. Подобная работа должна быть последовательно проведена в отношении революционного мифа, если мы хотим не просто регистрировать содержание, но понять его смысл. Распространение и длительное существование революционного мифа объясняется тем, что он стал основой советского государства, направленно формировавшего социальный заказ по его поддержанию на всем протяжении своего существования. Содержание мифа определялось постулатами утопической коммунистической (марксистско-ленинской) идеологии, структура была вполне логична (во многом соответствуя структуре религиозного мифа), а функция очевидна – поддержание легитимности однопартийной диктатуры. Динамика развития революционного мифа корректировалась внешними и внутренними системными вызовами.
Определяющее значение получили пять основных интерпретаций, возникших в ХХ в. и перешедших в современную историографию: идеи сторонников революции (начало новой эры коммунизма во всемирном масштабе); ее противников, прежде всего контрреволюционной эмиграции (революция как катастрофа – «Смута», закончившаяся крушением российской государственности); идеологии сталинизма (создание особой советской государственности нового типа); взгляды, характерные для эпохи «Оттепели» и затем Перестройки (возвращение к истокам революционной идеологии для преодоления исторических искажений и построения «подлинной» социалистической демократии); наконец, представления постсоветских демократических преобразований (радикальное отрицание всего советского наследия во имя демократии западного типа). Логика развития мифа, связанная с динамикой советского режима, прошла путь от преклонения перед революцией в почти сакральном смысле до превращения ее идей в собственную карикатуру и столь же решительного их отрицания. Значение этих идеологических конструкций чрезвычайно велико, поскольку фиксирует этапы развития легитимирующей формулы, однако ни одна из них (в силу метафизического характера) не может быть положена в основу научного знания о революции, подтверждая известную максиму Маркса: нельзя понять смысл исторической эпохи, исходя из того, что она сама думает и говорит о себе и используя терминологию самой эпохи. В целом эти конструкции не способны объяснить, каким образом масштабный революционный социальный проект, осуществлявшийся с невиданным энтузиазмом и бесчисленными жертвами на протяжении столетия, пришел к своему катастрофическому завершению и почему коммунизм, воспринимавшийся как спасение человечества от социального угнетения, тихо ушел с исторической сцены – не под звуки канонады, а шаркающей походкой старика, переставшего ориентироваться в новых реалиях.
Метод настоящего исследования определяется теорией когнитивной истории, четко обозначившей смену парадигм в историческом познании – переход от нарративной (описательной) истории к истории как строгой науке, которая видит решение проблемы доказательности в изучении целенаправленной человеческой деятельности[2]. Развиваясь в эмпирической реальности, данная деятельность неизбежно сопровождается фиксацией ее результатов созданием интеллектуальных продуктов или вещей (выступающих с позиций исторической науки в качестве источников, намеренная и ненамеренная информация которых может быть расшифрована исследователем для получения достоверного знания о прошлом)[3].
«Причину смены парадигм, – писала О. М. Медушевская, – теоретики видят в неспособности старой теории ответить на вызов логики эксперимента или наблюдения. Соотнеся это положение с ситуацией в гуманитарном знании ХХ в., можно видеть причину смены парадигм в исторической науке в неспособности нарративистской истории ответить на вызовы глобального миропорядка; нарративы противостоят друг другу, но ничего не объясняют. Неэффективен нарратив и в объяснении феномена информационного пространства технологий: слова и вещи утрачивают привычную связь, возникает новый информационный универсум, а глубинный порядок вещей, связь слов и вещей на фундаментальном общечеловеческом уровне не поддается традиционным объясняющим схемам»