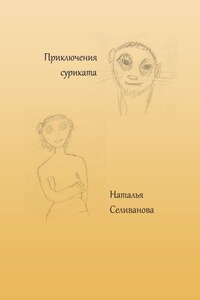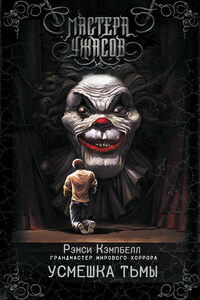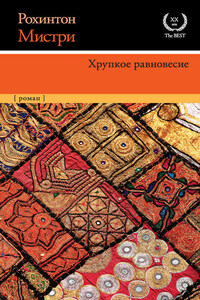Солнце наконец-то вернулось в Заполярье, и Августин вышел посмотреть, как оно расцвечивает небесную сталь розоватыми всполохами. Долгие месяцы он не видел дневного света. Нежное сияние ширилось от горизонта, просачивалось в ледяную синеву тундры; на снег ложились длинные тени цвета индиго. Рассвет полыхал все ярче, розовые краски сгущались в оранжевые, затем – в багряные, словно голодное пламя заглатывало плотные слои облаков один за другим, прежде чем охватить небо целиком. Августин наслаждался этими ласковыми лучами, от которых приятно покалывало кожу.
Все небо было затянуто облаками – необычно для весны в этих краях. Обсерваторию построили здесь, в Арктических Кордильерах, из-за ясной погоды, разреженной приполярной атмосферы и приличной высоты над уровнем моря. Августин покинул бетонное крыльцо главного здания и по тропе, рассекавшей крутой склон, направился дальше, мимо группы хозяйственных построек, жавшихся к горе. Когда последнее строение осталось позади, солнце уже начало спускаться, а краски – блекнуть. День продлился минут десять, не больше.
Вдоль северного горизонта, насколько хватало глаз, тянулась покрытая снегом горная цепь. К югу простиралась бескрайняя гладь тундры. В хорошие дни этот пейзаж, похожий на чистый холст, приносил покой. В плохие – угрожал безумием: мир равнодушно взирал на человека, и укрыться от этого взгляда было негде. Августин пока не знал, к какому типу отнести день сегодняшний.
В другой, прошлой жизни, как только окружение его отторгало – а это происходило довольно часто, – он, недолго думая, закидывал вещи в кожаный чемодан и переезжал. В небольшой чемодан умещалось все необходимое. Не требовалось ни грузовиков, ни пузырчатой упаковочной пленки, ни прощальных вечеринок. Августин просто решал уехать – и неделю спустя уже был далеко.
После аспирантуры он отправился изучать умирающие звезды в пустыню Атакама на севере Чили. Затем его ждали Южная Африка, Пуэрто-Рико, Гавайи, Нью-Мексико, Австралия. Он бывал всюду, где располагались самые продвинутые телескопы и системы спутниковых антенн, разбросанные по всему свету, словно хлебные крошки. Чем дальше от житейских забот, тем лучше. Такая жизнь была ему по душе.
Августин не придавал значения странам и континентам; его заботило только то, что творилось далеко за пределами Земли. Он упорно трудился и достиг невиданных высот, его научный авторитет неуклонно рос… и все-таки этого было мало. Он никогда не был абсолютно доволен и знал, что никогда не будет. Ему хотелось не просто успеха, не просто всеобщего признания. Он жаждал изменить историю, добраться до сути Вселенной – взрезать ее, словно спелый арбуз, и первым разложить по полочкам еще влажные семена, оставив в дураках нерасторопных коллег. Он хотел сжать пальцами сочную красную мякоть и заглянуть в нутро бесконечности, узнать, что происходило на заре времен, хотя бы краешком глаза увидеть, с чего все начиналось. Он хотел, чтобы его запомнили.
И вот он здесь – семидесятивосьмилетний старик, забравшийся высоко в горы на самом краю мира. Работа его жизни близка к завершению, но все, что ему остается, – глядеть в стеклянные глаза собственного невежества.
* * *
Обсерватория Барбо казалась продолжением горы. Купол телескопа возвышался над окружающим пейзажем, будто кулак надзирателя. Примерно в километре к югу – там, где тундру разровнял и утрамбовал доставленный из Гренландии бульдозер, – виднелись взлетная полоса и ангар, помеченные оранжевыми светоотражающими флажками и сигнальными огнями, которые давно не работали. Ангар пустовал, полоса тоже была заброшена. Последние самолеты принесли сюда вести о войне и забрали исследователей со станции. С тех пор прошло больше года.
Станция была рассчитана на проживание дюжины ученых в течение девяти месяцев. Здесь имелись бочки с топливом, продукты длительного хранения, очищенная вода, лекарства, охотничьи ружья, рыболовные снасти, лыжи, альпинистские кошки и тросы. Научного оборудования хватало с лихвой, а данных поступало столько, что не обработать и за дюжину жизней. Такой расклад в целом устраивал Августина.
Сердцем поселения была обсерватория – капитальное строение, вокруг которого располагались общежития, складские помещения и зоны отдыха. Не будь огромного телескопа, размещенного в главном здании, не существовало бы и самой станции. Окружавшие обсерваторию хозяйственные постройки едва ли могли называться таковыми – в большинстве своем это были водонепроницаемые палатки. В них ученые принимали пищу, спали и хранили личные вещи.
Здешняя исследовательская программа обычно длилась от шести до девяти месяцев, но к моменту эвакуации Августин провел на станции почти два года. Теперь подходил к концу уже третий год. В Барбо отовсюду съезжались молодые, бойкие ученые, многие из которых только что получили ученую степень. Они с нетерпением ждали момента, чтобы – пусть и ненадолго – вырваться из пут научной педагогики, прежде чем окончательно в ней погрязнуть. Августин свысока смотрел на этих книжных червей, знакомых только с теорией, а опыта почти не имевших. Впрочем, он с трудом смог бы назвать человека, которого не презирал.
Прищурившись, Августин едва различал за плотными облаками зависший над горизонтом круг солнца, рассеченный надвое ломаным контуром Кордильер. Только что миновал полдень, на дворе стоял поздний март. Полярная ночь наконец-то покинула эти суровые края, и теперь – поначалу неспешно – сюда возвращался день. Вначале солнце лишь на пару часов показывалось над землей. Но Августин знал: уже скоро разгорится полярный день, а звезды поблекнут. Яркой вспышкой промелькнет лето, за ним придет тусклая осень, а потом вновь воцарится иссиня-черная зима. Однако сейчас сложно было представить картину отраднее, чем солнечный диск с топлеными краями, угнездившийся у самого горизонта и льющий свет на раскинувшуюся внизу тундру.
В Мичигане, где вырос Августин, зима наступала постепенно: первый снежок припорашивал землю, его сменяли мягкие, как перина, сугробы; сосульки вырастали все длиннее и острее, а потом – кап-кап – исчезали в бурлении весны. Здесь, в Арктике, все происходило иначе. Зима приходила неумолимо – резкая, словно грань бриллианта, оставляя после себя огромные ледники, которые никогда не таяли, и мерзлую почву, которая никогда не прогревалась.
В постепенно угасавшем полуденном свете по горному гребню трусил белый медведь – к морю, на охоту. Августин подумал, что тоже не прочь облачиться в толстую медвежью шкуру и никогда ее не покидать. Он представил, каково это: опустив вытянутую морду, поглядеть на свою огромную лапу размером с поднос, затем перекатиться на спину, чувствуя, как под здоровенной махиной мышц, жира и меха проседает мерзлая почва. Каково это – вытащить нерпу из лунки во льду и, убив ее одним мощным ударом, погрузить зубы в свежую, дымящуюся плоть, – а потом, насытившись, уснуть на чистом, только что выпавшем снегу? В голове – ни одной мысли, одни инстинкты: желание утолить голод или уснуть, а в нужное время года – позыв к размножению. Никакой любви, никакой надежды, никаких сожалений. Звери созданы, чтобы бороться за жизнь, а не размышлять о былом.