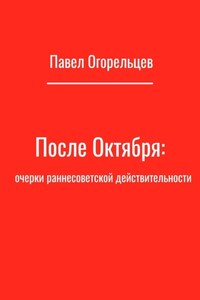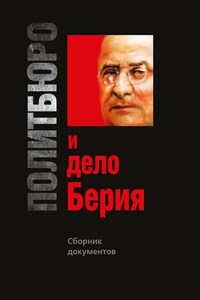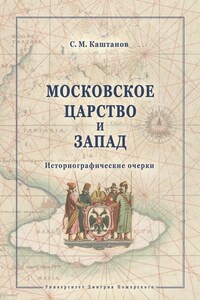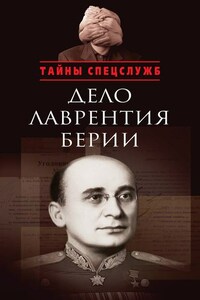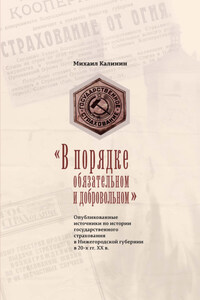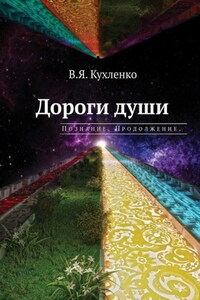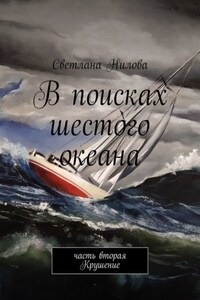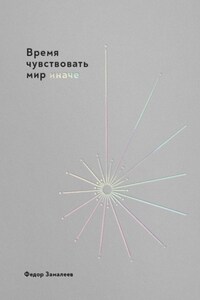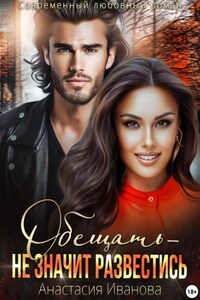Об авторе
Павел Огорельцев – историк, исследователь. Окончил Уральский федеральный университет по специальности «Документоведение и архивоведение». Сфера профессиональных интересов включает в себя Советский Союз и советскую ментальность в различных проявлениях (коллективная память, общественные представления, взаимоотношения государства и Церкви, культура). Является автором нескольких десятков научных статей, сотрудничает со средствами массовой информации в качестве эксперта.
Рецензент:
М.И. Титовец, историк, член Союза краеведов России, директор МКУ «Качканарский городской архив» (Качканар)
Автор выражает уважение и благодарность сотрудникам Качканарского городского архива, Центра документации общественных организаций Свердловской области, Центра эго-документов «Прожито» Европейского университета в Санкт-Петербурге за труд на благо исторической науки.
Третье и четвертое десятилетия ХХ века были детством родившейся в Октябре 1917 года страны. Новая общественная идея, промышленная трансформация, изменение бытовых условий, доступность технологических новшеств, по задумке коммунистов, должны были вознести отечественное общество на невиданные ранее высоты. Время выдалось поистине многогранным. Почти 100 лет прошло с тех времён, и кажется, что все уже описано, указано, расставлено по своим местам. Тысячи историков в своих статьях и монографиях пролили свет на потайные уголки раннесоветской жизни, объяснили причины неудач, раскрыли секреты побед. Но, как показывает жизнь, далеко не на все вопросы, которые задавались и задаются, были получены чёткие ответы. День сегодняшний ставит многие из них ребром, снова актуализирует их значение. В частности, в публичном пространстве последних лет ведётся активная дискуссия о статусе и месте для тела Ленина[1]. В контексте сноса украинскими властями советских памятников истории и культуры, притеснения Украинской православной церкви наш взор вновь обращается к событиям вековой давности[2]. Внешнеполитический поворот к странам Востока, в том числе в образовательной среде, также находит свои параллели с 1920–1930-ми годами[3]. 10 лет назад было введено звание «Герой труда Российской Федерации», а вскоре мы будем праздновать юбилей создания советской награды. Иными словами, как показывает жизнь, история развивается спиралевидно, не повторяясь один в один, но во многом перенося свои шаблоны из одной эпохи в другую. Для лучшего понимания течения современных процессов полезным будет ориентироваться в том, что было до нас. В рамках этой небольшой книги я постарался так или иначе затронуть несколько сфер социальной жизни: религиозную, идеологическую, историко-культурную, воспитательную, политическую. Небольшие очерки, посвященные аспектам жизни раннесоветского общества, по-новому раскроют некоторые детали, многое окажется схожим с сегодняшним днём. Количество ссылочного аппарата может показаться несколько излишним, но я считаю, что в данном случае больше – лучше. С учётом того, что большинство ссылок интерактивны, читатель сможет самостоятельно углубиться в особо интересующий материал. Желаю приятного чтения!
Высшее церковное управление в 1917–1925 гг
Мы смиренно просим вас, возлюбленные чада наши, блюсти Дело Божие, да ничто не успеют сыны беззакония
Патриарх Тихон (Беллавин)
В начале ХХ века Российская империя столкнулась с перманентным кризисом, охватившим все основные сферы жизни – политику, военное дело, экономику, культуру. Не обошло это явление и Православную церковь, внутри которой многие священнослужители и миряне начали активно высказывать то, что раньше было лишь в варианте умозаключений – недовольство существующим положением. Напомню, что дореволюционная структура управления Церковью предусматривала её подчинение государству, в лице императора, и светскому чиновнику (обер-прокурору), иными словами, она была не отдельным духовным организмом, а рассматривалась в качестве официального органа власти (Святейший правительствующий синод) со всеми вытекающими из этого статуса плюсами и минусами. Главным недостатком имеющегося положения было то, что большинство вопросов, интересовавших представителей церковной общественности, возможно было решить лишь на общесоборном уровне, а не методами директивного управления. В конце концов, власть решила пойти навстречу чаяниям верующих, и для подготовки проведения Поместного Собора был создан особый орган – Предсоборное Присутствие, который состоял из нескольких отделов[4]. На его заседаниях между авторитетнейшими богословами и епископами того времени велась дискуссия, в которой среди прочих вопросов была затронута идея возрождения патриаршества. Вышедшие материалы Присутствия предварили выработку решений Поместного Собора, который состоялся уже в годину революционных потрясений.

Огорельцева Л. Зимний перезвон. 2021.
После отречения императора Николая II от престола, Святейший правительствующий синод, оставшийся без формального главы, признал Временное правительство. То, в свою очередь финансово поддержало начинания православных, ведь стало ясно, что медлить с созывом общецерковного Собора более нельзя, необходимо было решать накопившиеся проблемы. Товарищ председателя Собора митрополит Новгородский и Старорусский Арсений (Стадницкий) так оценил проведение этого мероприятия: «То, чего не могла дать власть старого порядка, легко теперь дала новая власть»[5].
Авторитет избранного собрания был основан на Церковной полноте, которая реализовала себя на демократических началах. Дискуссия о восстановлении соборно-патриаршей системы на Всероссийском Поместном соборе 1917–1918 годов открыла новые возможности для практической реализации вероучения о предстоятеле[6]. Конечно, далеко не все в Церкви считали необходимым наличие единого главы, многие представители богословской профессуры, например, придерживались прямо противоположных взглядов. Но после Октябрьской революции было решено прекратить всяческие прения по этому вопросу, так как Церкви в непростое время стоило централизоваться и объединиться. Основные итоги работы Собора были оформлены в Собрании определений и Деяниях 1917–1918 гг. Это первый с петровских времён официальный внутрицерковный акт, в котором был канонически оформлен возврат к патриаршеству. Особый интерес представляют первые две главы, в них высшая власть представлена не в лице Патриарха, как следовало логически ожидать, а сосредоточена в Соборе из числа епископов, клириков и мирян[7]. В следующих положениях восстанавливается титул Патриарха Московского и Всероссийского, который подотчетен Собору и является первым епископом среди равных, а также перечисляется новая структура системы церковного управления, которая, однако, так и не была реализована на практике в полной мере из-за обстоятельств эпохи. Первоиерарх обладал широкими правами, сферой его ведения кроме Московской епархии становилась и вся территория Патриархии, а также военно-морское духовенство. В конце 2 главы была описана процедура смещения первоиерарха из-за канонических противоречий и порядок передачи власти.