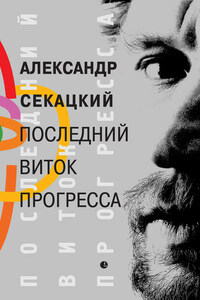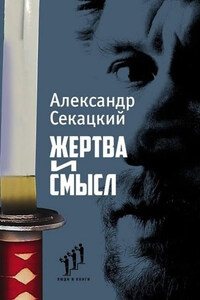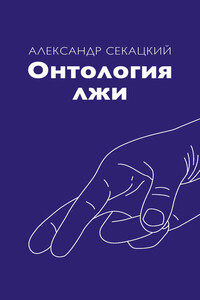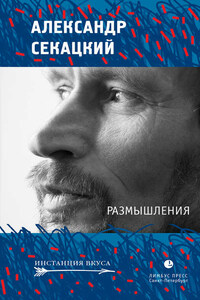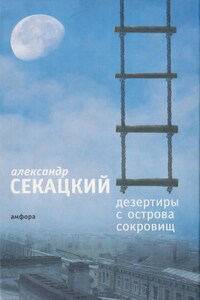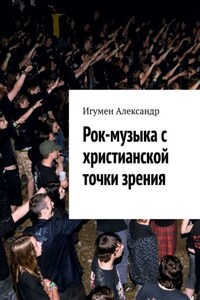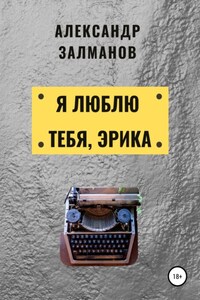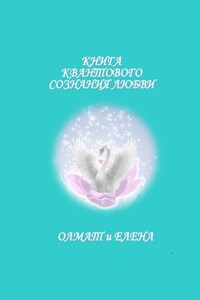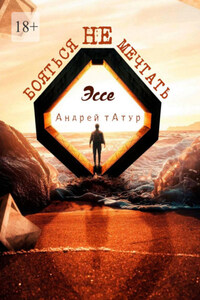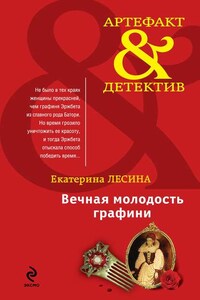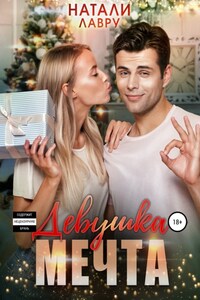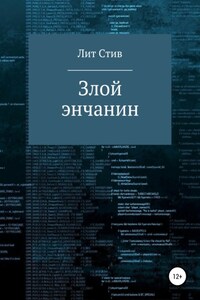1
Статус философии как социальный индикатор
Критика массовой культуры, одно из любимых интеллектуальных упражнений XX столетия, возникла когда-то как наследница и правопреемница критики здравого смысла, продолжив начатое еще Френсисом Бэконом выявление предрассудков. По сравнению с философией Просвещения и немецкой классической философией особенность нового типа обличений состояла (и состоит) в некотором смещении критической парадигмы: если прежде обыденное сознание критиковалось за свойственное ему невежество, то, начиная с определенного момента, главным поводом для негодования интеллектуалов стала пошлость. Отсюда вытекает и своеобразное негативное определение: массовая культура есть то, что отвергается за пошлость, при этом сам вердикт о пошлости обжалованию не подлежит.
С позиций инстанции вкуса родоначальниками новой критической парадигмы выступили Бодлер, Ницше и Поль Валери; с позиций теоретической философии – Ортега-и-Гассет. С тех пор обличение пошлости культурного выбора масс само давно уже превратилось в заезженную пластинку: каждый очередной вклад можно оценивать преимущественно по содержащейся в нем доле язвительности. Но продолжающееся использование дежурных разоблачений представляет и другой интерес, прежде всего с точки зрения сформировавшейся зоны избирательной слепоты (meconnaissanse Лакана). Мыслитель левого крыла (то есть современный интеллектуал) всегда находит, что сказать в адрес эксплуататоров, под какими бы благопристойными личинами они ни скрывались, есть у него что сказать и по поводу современной профанации духовного производства, но вот с обоснованием перехода от одной критической вариации к другой возникают явные трудности.
Условия задачи, стоящей перед левым теоретиком, примерно таковы: как, выражая солидарность с эксплуатируемыми кроткими агнцами (наследниками пролетариата), одновременно уберечь их же от ответственности за овечьи нравы современной массовой культуры? Для решения задачи обычно прибегают к помощи диалектического аттракциона (Э. Ласло, А. Глюксман, Р. Гароди): необходимо выявить формы угнетения, которые в этом случае особенно тщательно скрыты. В результате дело, как правило, сводится к механизмам оболванивания обездоленных, к навязыванию угнетателями своих пошлых вкусов и к другим подобным же приемам дезориентации трудящихся, например к «потаканию низменным потребностям». Виновниками, разумеется, являются потакающие, а не потакаемые, которые, напротив, обладают презумпцией невиновности.
Обращает на себя внимание принимаемое «по умолчанию» предположение, будто демократизация общества – это одно, а та же самая демократизация, разворачивающаяся в сфере культуры, – нечто совсем другое, например «навязывание стереотипов», выдавание подделок за чистую монету, одним словом – хитрость господствующего разума («цинического разума», как сказал бы Слотердайк). В конце концов возникает наивный вопрос: почему так мало противников демократизации общества (все «за») и столь же мало сторонников демократизации искусства? Иными словами, почему в этом пункте столь редка последовательность аналитической мысли и так очевиден meconnaissanse?
Если не считать колебаний Георга Лукача и Антонио Грамши и решительной, но противоречивой позиции теоретиков Пролеткульта (прежде всего А. А. Богданова), среди левых интеллектуалов практически не найти сторонников экспроприации в сфере искусства как процесса духовного производства (а не как «сокровищницы», которую можно и нужно изъять у буржуазии). В результате имманентные друг другу явления получают противоположную оценку «без объяснения причин». Например, инфляция социальных эталонов (присвоение звания «господина» или «милостливого государя» булочнику и мусорщику) рассматривается как социальное завоевание трудящихся и вообще как фактор прогресса цивилизации, а точно такое же социальное завоевание, состоящее в облегчении доступа к артефактам культуры, напротив, рассматривается как инфляция общечеловеческих ценностей.
Культуриндустрия (воспользуемся этим термином из «Диалектики Просвещения») не рассматривается даже как частичный прогресс в деле освобождения, стоящий в одном ряду с сокращением рабочего дня и введением всеобщих избирательных прав. Однако, если напрямую спросить, чем же доступная культура хуже доступного жилья, ответ найдется не сразу. Возникает даже подозрение относительно самой формы доступности: а что, если принцип демократичности обнаруживает здесь свою невидимую прежде сторону? И не может ли данное обстоятельство бросить тень на демократизацию вообще?
Кроме того, выясняется, что внятно сформулировать отличие массовой культуры от культуры элитарной не так просто, как может показаться. Действительно, если отбросить чисто оценочные суждения, вроде «пошлости» и «потворства низменным вкусам», мы обнаружим лишь один значимый параметр – положение на шкале «легкодоступность – труднодоступность». Но можно ли упрекать культуру за ее слишком легкую доступность?
На самом деле очень даже можно, только тогда уж надо быть последовательным. Чрезмерная доступность культуры автоматически вызывает понижение статуса духовности. Казалось бы, ну и что: доступность автомобиля тоже лишает его статуса предмета роскоши, однако никому не приходит в голову сокрушаться по этому поводу. Дело в том, что культура изначально выстроена как иерархия ценностей и дистанцирована (это входит в ее определение) от режима повседневности. Отсутствие или даже сокращение такой дистанции приводит к сущностной эрозии базисного проекта человеческого в человеке, но политкорректная философия не хочет признавать, что эрозия вызывается именно упразднением дистанции, предпочитая вновь говорить об «опошлении» и «засилье чистогана», о проникновении товарной формы в духовное производство. Ведь стоит признать, например, что высокое искусство зависит от своей высоты и с ее утратой лишается и собственной сущности, как сразу же возникает необходимость пересмотреть роль дистанций в организации социальности. Автоматическая доступность культуры, вплоть до ее вызова нажатием кнопки, меняет в ней что-то принципиально важное даже безотносительно к содержанию, а отсутствие встречной аскезы читателя или зрителя приводит и к содержательным изменениям.
Таким образом, массовая культура, взятая в ее ценностной нейтральности, – это прежде всего новый способ адресации определенного типа сообщений: это послание с доставкой на дом. Посылка, за которой приходилось «идти на почту», теперь вручается потребителю прямо в руки расторопными медиа-посредниками