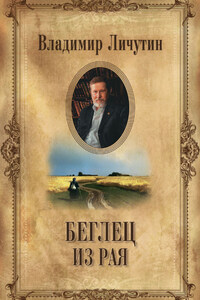Я шла по грязной дороге к летнему домику Генри Грея, постоянно напоминая себе, что я здесь вовсе не непрошеная гостья. Мужчины в мятых льняных рубашках и мешковатых штанах и женщины в свободных летящих юбках и платьях разбрелись по хорошо утоптанной лужайке перед старым домом с односкатной крышей. С океана, от которого это место отделяла пустошь, дул нежный, но вполне чувствительный ветерок, от которого коктейльные салфетки трепетали на ветру, как перья.
Бросив взгляд вниз на свои эспадрильи на плоской подошве, я уже жалела о том, что не надела каблуки.
– Эго у него огромное, картинам под стать, – услышала я, как сказала какая-то женщина рядом.
Послышался гулкий голос стоящего за ней мужчины:
– Я должен был сказать «Эдна Сент-Винсент Миллей»[1]. И что я сказал? «Эдна Сент-Винсент Малкэхи!»
Говорящий и его слушатели залились смехом, а я сделала пару шагов к ним. Аристократического вида мужчина с копной седых волос, размахивая бокалом, увлеченно рассказывал своему соседу:
– Я, конечно, знал, что Боб Готлиб привнесет нечто новое, но никак не предполагал, что это будет всего лишь появление в «Нью-Йоркере» нецензурных слов.
Гости вели себя именно так, как я себе и представляла. Это была элита летнего Труро – писатели, редакторы, поэты и художники, которые покидали свои дома в Манхэттене и Бостоне после Дня поминовения и оставались на Кейп-Коде вплоть до сентября. Лично я узнала об этом высоком обществе из рубрики «Город говорит», в которой периодически о нем упоминали, а также из сплетен, которыми мои родители делились с друзьями. Им нравилось соседство со знаменитыми интеллектуалами, хотя пути их редко пересекались.
Эта компания проводила лето не в новеньких дачных домиках – аккуратных, с открытой верандой, вроде того, что купили мои родители после стольких лет жизни в арендованном жилье, а в старых обшарпанных домах Кейп-Кода с их застекленными верандами и крытыми черепицей крышами. Именно там они играли в нарды, пили джин и устраивали бесконечные турниры по теннису, а не на Оливерс в Уэлфлите, где мои родители и их друзья вносили почасовую оплату. Они играли на своих собственных, хотя и стареньких кортах. В отличие от нас все они, за небольшим исключением, не были евреями. Насколько я знаю, они даже не ходили на общий пляж.
Я пробралась сквозь толпу людей, окружавших деревянный стол, и с огорчением обнаружила, что на нем нет ничего, кроме тарелки фаршированных яиц и маленькой миски с ореховым ассорти. Может быть, это из-за таких скудных порций все здесь были такими худыми, с фигурами тонкими и прямыми, такими же, как их волосы? Толстой я себя никак не назвала бы, хотя линии тела у меня были довольно-таки округлые, но находясь среди этих угловатых людей, я в своем приталенном сарафане в цветочек от Лоры Эшли чувствовала себя до неприличия фигуристой.
Стесняясь стоять в одиночестве, я подошла к старому деревянному столу; мужчины, сидевшие за ним, чистили устриц, в шутку соревнуясь друг с другом. Оба они были загорелые, крепкие, но один из них был молод, наверное, всего на пару лет старше меня, и его блестящие каштановые волосы были забраны в хвостик, а второй был старше, и у него были темные волнистые волосы. Когда мужчина постарше поднял голову, я поняла, что это Генри Грей. В жизни он показался мне более добрым и привлекательным, чем на той грозной фотографии, которая висела над его колонкой, «Мой Нью-Йоркер».
Я представилась, и он моргнул в ответ.
– Я из «Ходдер, Страйк энд Перч», – сказала я. – Работаю секретарем у Малькольма Уинга.
Генри отложил нож для чистки устриц и всплеснул руками:
– О, бессмертные боги, Ева Розен, вы существуете! Единственный живой человек в «Ходдер энд Страйк»!
Столь оживленное приветствие меня, как ни странно, успокоило. Молодой парень, чистивший до этого устрицы, протянул мне руку, не снимая толстой брезентовой перчатки.
– Рад слышать, что вы действительно существуете, – сказал он с легкой открытой улыбкой. – Меня зовут Фрэнни. Верный слуга Генри и по совместительству его сын.
Я пожала его слегка влажную перчатку, и мелкие обломки раковин впились мне в пальцы, когда он сжал мою ладонь. Глаза у него были невероятно зеленого цвета.
– Я тоже рада узнать о вашем существовании, – сказала я.
Солнце клонилось к горизонту и озаряло все окружающее медовым светом. Кончики длинных тонких трав за спиной Фрэнни, казалось, сами испускали свет.
Мне никогда не приходило в голову, что у Генри может быть сын, наша переписка всегда носила исключительно деловой характер. Его письма, которые приходили мне на почту, неизменно были набраны на ручной печатной машинке, даже когда Генри пребывал у себя дома на Манхэттене. Я хорошо помнила эти маленькие хрустящие листочки серо-желтой бумаги с его инициалами – HGG – набитыми контрастно-черными чернилами. В этих письмах часто бывало всего по паре строк – обычно о чем-то обыденном, вроде пропавших отчетов, но они всегда были написаны с огромным остроумием и колкими саркастичными замечаниями о Малькольме, который уделяет ему недостаточно внимания. Это было так захватывающе – переписываться с писателем из «Нью-Йоркера», хотя у нас его не слишком-то уважали, отчасти из-за его бесконечных мемуаров. Контракт на них с ним был подписан редактором, давно ушедшим на пенсию, но книга до сих пор не была готова к изданию. Так что я потратила приличное количество времени на составление ответных писем, стараясь, чтобы они звучали непринужденно весело и как минимум неглупо и с толком. Эта переписка здорово скрашивала мои рабочие будни.
Генри протянул мне устрицу:
– Наисвежайший моллюск для единственной живой сотрудницы «Ходдер, Страйк энд Перч».
Я взяла раковину, поднесла ее ко рту и, чувствуя, что они оба смотрят на меня, постаралась втянуть устрицу в себя настолько изящно, насколько это было возможно.
– Солоновато, но при этом и сладко, да? – спросил Генри.
Я кивнула и вытерла рот, поражаясь тому, насколько похожи были друг на друга эти мужчины.
– Смотрю на вас и словно вижу Генри из прошлого, ну, или Фрэнни из будущего. Вам, наверное, все время об этом говорят?
– А я смотрю на вас и чувствую себя так, словно испил воды из фонтана юности, – сказал Генри. – Еще одну устрицу будете?
– Ладно, Генри, не начинай, – проговорил молодой, Фрэнни.
– Ты всегда обращаешься к отцу по имени? – спросила я, взяв еще одну устрицу.
– Только когда это позволяет ситуация.
Генри надавил ножом на створки раковины и с легкостью раскрыл их. Пустую половинку раковины он отбросил в корзину и, удерживая створку с устрицей рукой в перчатке, смахнул с нее пару осколков. Затем положил на тарелку, покрытую льдом, и, глядя на меня, обратился к Фрэнни: