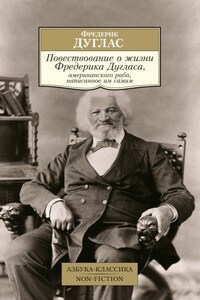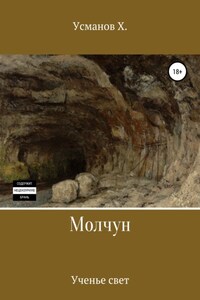Я родился в Такэху, близ Хиллсборо, что в двенадцати милях от Истона, в округе Тэлбот, штат Мэриленд. Я не знаю точно, сколько мне лет, во всяком случае, я не видел какой-либо достоверной записи на этот счет. Большинство из рабов знают о своем возрасте столь же мало, как и лошади, и таково желание большинства хозяев – держать их в том же неведении, в каком находился я. Я даже не припоминаю, встречал ли раба, который мог бы назвать свой день рожденья. Они почти никогда ничего не знают об этом, кроме того, что он приходится на время сева, урожая, созревания вишен, весну или осень. Желание узнать, когда же я появился на свет, терзало меня на протяжении всего детства. Белые дети могли сказать, сколько им лет. Я же не могу сказать, почему был лишен такой возможности. Я даже не допускал попытки расспрашивать хозяина по этому поводу. Подобные расспросы со стороны раба он считал неуместными и дерзкими, а то и признаком у него мятежного духа. Приблизительно могу лишь сказать, что сейчас мне где-то 27 или 28 лет. Я пришел к этому выводу, потому что в 1835 году как-то услышал, как мой хозяин сказал, что мне около 17 лет.
Мою мать звали Гарриет Бэйли. Она была дочерью Исаака и Бетси Бэйли, обоих цветных и совершенно темных. На вид моя мать была даже темнее, чем любой из моих предков.
Мой отец был белым. Это признавали все, от кого я слышал о своем происхождении. Ходил даже слух, что отцом был мой хозяин, но насколько точно это мнение, я не знал; эти сведения были мне недоступны. С матерью меня разлучили еще в младенчестве – но я уже знал ее как мать. В той части Мэриленда, откуда я бежал, разлучать матерей с грудными детьми считается обычаем. Обычно перед тем, как дитя подрастет до года, его забирают от матери, и отправляют ее куда-нибудь подальше, а ребенка оставляют под присмотром старухи, непригодной для работы в поле. Я не знаю, с какой целью это делается, если только не помешать ему привязаться к матери и притупить и разрушить природную любовь матери к своему дитя. Таков неизбежный результат этого.
Я никогда не видел моей матери и если встречался с ней, то не более четырех или пяти раз в своей жизни; и всякий раз это происходило наскоро и ночью. Ее отдали внаем мистеру Стюарту, который жил в двенадцати милях от моего дома. Чтобы повидать меня, она приходила ночью, закончив дневную работу и преодолевая весь путь пешком. Она трудилась в поле, и плеть была наказанием тому, кто не поспевал туда к рассвету, если только, напротив, раб или рабыня не имели особого позволения своего хозяина – позволения, которое давалось им редко, а если и давалось, то лишь для того, чтобы с гордостью считать себя добрым хозяином. Я даже не припоминаю мать при свете дня. Она была со мной только ночью. Она ложилась рядом и укачивала меня, но уходила задолго до того, как я просыпался. Нас почти ничего не связывало. Последовавшая вскоре смерть оборвала нить, связывавшую нас при жизни, а с этим ее лишения и терпение. Она умерла, когда мне было около семи лет, на одной из ферм моего хозяина, близ Лис-Милл. Мне так и не позволили увидеться с ней ни во время болезни, ни в момент смерти или похорон. К тому времени, когда я узнал об этом, она уже давно умерла. Никогда так и не ощутив мало-мальски ее успокаивающего присутствия, ее нежной и внимательной заботы, я встретил это известие с такими же чувствами, какие, возможно, испытывают со смертью незнакомца.
Внезапная смерть помешала ей даже намекнуть мне, кто мой отец. Слух, что им был хозяин, может быть и правдой, и ложью; так это или не так, но он не сильно влияет на мои намерения, пока остается очевидным фактом гнусность, которую рабовладельцы освятили и упрочили законом – что дети женщин-рабынь во всех случаях будут наследовать положение своих матерей, и сделано это явно для того, чтобы потакать собственным страстям и превратить удовлетворение грешных желаний в занятие столь же выгодное, как и приятное; в силу этого коварства рабовладелец зачастую поддерживает со своими рабами двойные отношения хозяина и отца.
Я знаю подобные случаи; и достойно похвалы то, что такие рабы неизменно испытывают больше лишений и больше борются, чем другие. Во-первых, своим присутствием они постоянно оскорбляют хозяйку. Она почти всегда придирается к ним; они редко делают то, что удовлетворило бы ее; нет большей радости для нее, чем видеть их под плетью, особенно когда она подначивает мужа, указывая на то, что из всех рабов он благоволит к мулатам. Хозяин часто вынужден продавать этих рабов, завися от чувств жены; и как бы ни жестоко ранило это любого человека, вынужденного продавать своих детей работорговцам, поступать так его часто заставляют соображения гуманности, и до тех пор, пока он не сделает этого, то должен не только самолично наказывать их, но и быть свидетелем того, видя, как белый сын привязывает чуть более темного, чем он сам, брата и сечет окровавленной плетью его обнаженную спину; одно хоть слово против расценивается как его родительское участие и только ухудшает свою и без того тяжелую участь, как и участь раба, которого он хотел бы защищать и опекать.
Каждый год множится число этих рабов. Вероятно, зная об этом, один крупный государственный деятель на Юге1 предсказывал падение рабства неизбежными законами населения. Сбылось это пророчество или нет, тем не менее оно объясняет, что на Юге появляется и содержится в рабстве класс людей, непохожих на тех, кто был привезен в эту страну из Африки; и, если увеличение их числа не принесет никакой другой пользы, оно опровергнет тот аргумент, что Бог создал Хама и поэтому американское рабство оправданно2. Если, согласно Библии, рабы являются единственными прямыми потомками Хама, то ясно, что рабство на Юге скоро перестанет быть освященным ею, потому что ежегодно на свет появляются тысячи людей, которые, как и я, обязаны своим существованием белым отцам, тем самым отцам, которые часто являются их хозяевами.
У меня было два хозяина. Первого из них звали Энтони. Я не помню его имени. Для всех он был капитан Энтони – звание, которое, как я предполагал, он получил, плавая на судне в Чесапикском заливе. Его нельзя было назвать богатым рабовладельцем. Ему принадлежали две или три фермы и около 30 рабов. Сами же фермы и рабы находились под опекой надсмотрщика. Надсмотрщика звали Пламмер. Мистер Пламмер был жалким пьяницей, нечестивым богохульником и свирепым извергом. Он всегда ходил вооруженный плетью из коровьего хвоста и тяжеленной дубиной. Я узнал, что он так жестоко бил и хлестал женщин по головам, что даже хозяина приводила в ярость его жестокость и он угрожал ему хлыстом, требуя быть помягче. Однако и самого хозяина нельзя было назвать человечным. Возмутить его могла только необычайная жестокость надсмотрщика. Долгая жизнь в условиях рабовладения вконец ожесточила его. Временами казалось, что избиение раба доставляет ему величайшее удовольствие. Часто на рассвете я просыпался от душераздирающих криков моей тетушки, которую он привязывал к балке и сек по обнаженной спине до тех пор, пока она вся не покрывалась кровью. Ни слова, ни слезы, ни мольбы его окровавленной жертвы, казалось, не могли заставить его жестокое сердце отказаться от своего намерения. Чем сильнее он ее хлестал, тем громче она вопила, а когда кровь начинала струиться, он сек ее еще сильнее. Казалось, он сек ее, чтобы заставить кричать, и сек ее, чтобы она замолчала, и, пока не валился от усталости, он, не переставая, размахивал запекшейся от крови плеткой из коровьего хвоста. Помню, как-то раз я даже стал свидетелем этой страшной сцены. Я был совсем еще ребенком, но хорошо помню это. И никогда не забуду, пока буду помнить хоть что-то. Это было первое из длинного ряда таких поруганий, на которые я был обречен как свидетель и как жертва. Оно поразило меня до ужаса. Это были запачканные кровью ворота, вход в ад рабства, через который я должен был пройти. Это был страшный спектакль. Мне бы хотелось описать чувства, которые я испытал при этом.